Книга: Крушение столпов
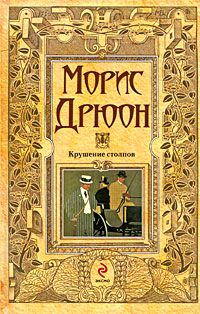
Крушение столпов
Посвящается Ролану Доржелесу
Напоминание об усопших великих родов
Выдающийся поэт, член Французской академии[1], кавалер Большого креста ордена Почетного легиона, умер в Париже в декабре 1920-го, в возрасте семидесяти четырех лет, в своем особняке на улице Любек. При его последних мгновениях присутствовали: два его брата, старший – Урбен, землевладелец, и младший – Робер, бригадный генерал; племянница со стороны жены Изабелла д’Юин – высокородных кровей, но лишенная состояния и какой-либо привлекательности, дожившая в девичестве до четвертого десятка; профессор Эмиль Лартуа, знаменитый врач, член Медицинской академии и кандидат в члены Французской академии; Симон Лашом, молодой выпускник университета, честолюбивый и бедный, сын беррийских крестьян, преподаватель четвертого класса в лицее Людовика Великого. Незадолго перед тем Лашом закончил диссертацию, посвященную творчеству Жана де Ла Моннери, и в тот день принес свежую корректуру умирающему поэту, перед глазами которого страница за страницей, вспыхивая и угасая, прошла вся его жизнь.
Правительство устроило Жану де Ла Моннери национальные похороны.
Слывший, хотя сам он и отрицал это, побочным сыном герцога Шартрского и скромно хранивший на протяжении тридцати лет платоническую верность графине, супруге Жана де Ла Моннери. Ради нее, помогая избежать скандала, этот тихий, добрый холостяк шестидесяти восьми лет от роду согласился через год после смерти поэта жениться на Изабелле, беременной от Симона Лашома. В Швейцарии у Изабеллы произошел выкидыш. Прожив полгода в браке, Оливье Меньере внезапно испытал подъем мужской активности, однако через несколько недель, изнуренный женой, которая была на тридцать пять лет его моложе, однажды ночью скончался на ней в приступе кровавой рвоты.
Сын барона Ноэля, внук барона Зигфрида, законный наследник могущественной династии банкиров еврейского происхождения, получивших дворянство в Австрии от Фердинанда II, а во Франции – от Наполеона III. Самоубийство тридцатитрехлетнего молодого человека, вызывавшего у многих зависть, красивого и богатого, великолепного спортсмена, блестяще прошедшего военную службу, внушавшего симпатию с первого взгляда и проявлявшего редкий предпринимательский дар, повергло Париж в изумление. На самом же деле Франсуа, наделенный повышенным чувством ответственности, покончил с собой, в какой-то миг потеряв от отчаяния голову; он стал жертвой биржевой махинации, затеянной против него собственным отцом, грозным исполином бароном Ноэлем. Последний почувствовал ревность к растущему влиянию молодого человека и решил лишить его престижа, который тот начинал приобретать.
Франсуа Шудлер оставил молодую жену, Жаклин, единственную дочь Жана де Ла Моннери; после длительной нервной болезни, вызванной происшедшей драмой, и обращения в новую веру стараниями доминиканца, отца Будре, она нашла прибежище в религии. Кроме того, у Франсуа осталось двое детей, Жан-Ноэль и Мари-Анж, в возрасте, к моменту его кончины, соответственно шести и семи с половиной лет.
Симон Лашом, став вскоре сотрудником «Эко дю матен», газеты, владельцем которой был Ноэль Шудлер, должен был поторопиться, чтобы занять возле магната место, на котором тот не захотел видеть своего сына.
Умер в младенчестве, недалеко от Мальмезона, едва дожив до двух месяцев; один из близнецов, с помощью которых двадцатилетняя актриса Сильвена Дюаль, выдавая себя за их мать, выкачала из шестидесятилетнего Люсьена Моблана два миллиона.
В конце 1923 года, в возрасте девяноста шести лет, рухнул от апоплексического удара в зале для игр своих правнуков Жан-Ноэля и Мари-Анж. Основатель французской ветви, второй барон Шудлер, чьим долгожительством гордилась семья, видывал еще Талейрана, беседовавшего за ужином у князя Меттерниха с французским и австрийским императорами. Он на полтора года пережил внука, покончившего с собой, а в самое утро его смерти сбрил себе бакенбарды.
Генерал Граф Робер де ла Моннери
Холостяк, с трудом перенесший свою отставку; вскоре у него началось воспаление предстательной железы; он протянул еще чуть более двух лет и в начале 1924 года скончался от приступа уремии. Ему было шестьдесят семь лет.
В семье прозванный Люлю, неудачный плод запоздалого брака маркизы де Ла Моннери-матери и банкира Бернара Моблана; соответственно единоутробный брат Урбена, Жана, Жерара и Робера де Ла Моннери, во все времена считавшийся позором рода. Первый муж баронессы, супруги Ноэля Шудлера, но брак их был почти незамедлительно расторгнут Римской курией. Большой оригинал, игрок, дебошир, импотент, отказывавшийся, однако, признаться в этом, Люлю Моблан ненавидел Шудлеров и сыграл важную роль в биржевой афере, послужившей причиной самоубийства Франсуа. В последние годы жизни Моблан в свою очередь испытал гнет ненависти Ноэля, который сумел с помощью семейного совета лишить врага права на свободное распоряжение имуществом и заставил признать себя его опекуном.
В конце концов всеми покинутый, преследуемый Ноэлем Шудлером, узнавший правду о рождении близнецов, Люлю Моблан потерял рассудок, был подобран в буйном состоянии на шоссе и угас, связанный смирительной рубашкой, в обычном сумасшедшем доме весной 1924 года. Ему был всего шестьдесят один год, и он оставил после себя значительное состояние.
За его гробом шла лишь госпожа Полан, давняя секретарша и доверенное лицо сначала Ла Моннери, а затем Шудлеров; она неизменно присутствовала при всех кончинах и похоронах в обоих семействах.
Охота слепца
На старике был длинный светло-желтый кафтан с черными, обшитыми золотом обшлагами и короткие черные велюровые штаны. Его все еще красивые руки, худые, в коричневых пятнах, с темными, коротко остриженными ногтями, лежали на коленях покойно, как на подушке. На безымянном пальце левой руки виднелась широкая сердоликовая печатка.
Тлеющие в камине угли отбрасывали красноватые блики на камень, украшающий перстень, на отделку куртки, на раструбы высоких кожаных сапог, сморщенных на щиколотке.
Голова у старика, глубоко сидевшего в вольтеровском кресле, чуть клонилась вбок; на его почти лысой голове сзади еще сохранился венчик жестких седых волос, отвислый подбородок складками опускался на двойной бант пикейного галстука, заколотого булавкой с оленьим зубом.
Часы в комнате пробили шесть, затем раздалось еще два удара, послабее, отзвонивших половину.
«Значит, уже темно, – не выходя из полудремы, подумал маркиз де Ла Моннери. – Взяли они его или нет?..»
Он услышал, как треснуло полено и посыпались угли. Но не шевельнулся, зная, что перед каждым камином есть медный экран.
«Кстати, где я? – подумал маркиз. – В малой гостиной. Тогда какой здесь должен быть камин? С грифонами или с музами?»
Он поднялся, осторожно вытянув вверх руку, чтобы не стукнуться о мощный каменный карниз в стиле ренессанс, опоясывавший колпак над камином. Пальцы старика чуть заметно, судорожно шевелились и, добравшись до скульптур, нащупали крылья, бороздки, изображающие перья на лапках, заканчивающихся острыми когтями. Да, это был камин с грифонами, украшенный в нескольких местах большой буквой «М» – своего рода гербом Моглева, составленным из двух перекрещивающихся шпаг и увенчанным короной. Другой камин – с музами – находился в большой гостиной.
«Ну вот, – подумал маркиз, – я уже и не знаю, что у меня в доме».
Он снова нащупал подлокотник кресла и, вздохнув, опустился на сиденье.
Маркизу де Ла Моннери было восемьдесят четыре года. Несколько лет назад ему удалили катаракту с обоих глаз, но и это не спасло его от слепоты. Лишь в яркий солнечный день он еще мог с трудом разглядеть серый проем окна – словно простыню, висящую в черноте ночи; в иные вечера едва различимое свечение указывало ему, что зажгли лампы. Он жил словно в глубине огромной мертвой жемчужины.
Временами, когда между ним и лампой кто-нибудь проходил, он различал тень и думал: «Смотри-ка! Я все-таки что-то увидел». Но и эти последние проблески зрения ослабевали с каждой неделей. Маркиз знал, что вскоре слуги и родственники, которых он изредка встречал в коридорах замка, утратят даже те неясные, похожие на призраки, очертания, какие он еще различает, и Моглев станет для него лишь громадным склепом, населенным голосами.
Дверь отворилась – вошла Жаклин Шудлер в сопровождении высокого офицера спаги[2].
– Это я, дядя Урбен, – громко сказала она, – я, Жаклин.
Всякий раз, когда она входила в комнату и обнаруживала старика вот так глубоко сидящим в кресле, она боялась, что он умер.
Маркиз выпрямился.
– Ну что, взяли? – спросил он.
– Понятия не имею, дядюшка, – ответила Жаклин, бросая на мраморную консоль треуголку и хлыст. – Я отстала от собак в болотах Волчьей ямы, а тут стало темнеть… Я прямо сама не своя от злости! К счастью, я встретила капитана Де Вооса, который потерялся, как и я. Это меня все-таки немного утешило, и мы вернулись вместе. Я предложила ему заехать к нам и подкрепиться.
Маленькая, очень тоненькая, с хрупкими запястьями и щиколотками, худенькой шеей, высокими дугообразными бровями, Жаклин была во всем черном. Юбка для верховой езды, забрызганная глиной, присобиралась на бедре, чтобы не стеснять движения.
Молодая женщина села в кресло, стоявшее по другую сторону камина, попудрилась и быстро пригладила гребнем волосы. Костюм никак не соответствовал столь хрупкой внешности.
– Кто-кто? Де Воос?.. Какой капитан Де Воос? Не знаю такого, – пробурчал маркиз.
– Ну как же, дядюшка, это гость Жилона. Его представляли вам сегодня утром, перед охотой. И он сейчас здесь, со мной, – поспешила уточнить Жаклин.
– А-а!.. Прекрасно, – отозвался маркиз.
– Я злоупотребляю вашим гостеприимством, месье, – сказал Де Воос.
Невольно он заговорил слишком громко, будто обращался к глухому, и услышал, как его собственный голос отразился от высоких кессонных потолков.
Маркиз приподнял веки, его белесые, лишенные хрусталиков жуткие зрачки повернулись в том направлении, откуда донесся голос офицера.
– И как тебе этот капитан, Жаклин? – спросил он.
Молодая женщина, слегка улыбнувшись смущенно, поглядела на высокого спаги и не нашла ничего лучшего, чем принять иронически-веселый тон.
– Ну что же, дядюшка, он очень высокий, – отвечала она. – Метр восемьдесят…
– Восемьдесят четыре, – уточнил Де Воос, показывая тем самым, что с удовольствием принимает игру.
– Он – шатен… погодите-ка, темный шатен или светлый? – продолжала она, делая вид, будто придирчиво разглядывает его. – Нет, темный шатен. На нем восхитительный красный доломан. И… вообще, он красив! Вот так!
– Благодарю, – поклонившись, сказал Де Воос.
– Сколько лет? – опять задал вопрос старик.
– Тридцать семь, месье, – ответил Де Воос. И, обернувшись к Жаклин, добавил: – Теперь вы знаете обо мне все.
На несколько мгновений наступила тишина. Жаклин нагнулась поворошить угли, и над черным бархатным воротником, над белым галстуком приоткрылась полоска хрупкой шеи и стал заметен золотистый, легкий, почти детский пушок волос на затылке.
– Ты собираешься за него замуж? – внезапно произнес слепец.
Жаклин резко выпрямилась.
– Дядюшка, я же вам сказала, – воскликнула она, рассмеявшись, – что еще сегодня утром, до охоты, я не была знакома с господином Де Воосом! – И добавила, почувствовав на себе пристальный взгляд капитана: – Имейте в виду, дядюшка непременно хочет выдать меня замуж. Это у него прямо мания. Но не волнуйтесь: вы никакой опасности не подвергаетесь.
Не зная, как себя вести, Де Воос просто развел руками, показывая, что во всем – воля Провидения.
– Но ведь она должна выйти замуж! Я знаю, что говорю! – вскричал маркиз, хлопнув по подлокотнику кресла.
– Оставьте, прошу вас, дядя Урбен! – потеряв терпение, обрезала его Жаклин. И, стремясь переменить тему, добавила: – Больше всего меня возмущает то, что Лавердюр настигнет оленя один.
– Сколько же мы сегодня отмахали? Я плохо знаю местность и не могу подсчитать, – заметил Де Воос. – Пятьдесят километров, пятьдесят пять?
– Ну что вы! Не больше сорока, – ответила Жаклин.
– Вы наверняка получите более точное представление о наших дорогах, месье, если окажете нам честь посетить Моглев еще раз, – сказал маркиз.
Жаклин и Де Воос заканчивали поданный им сытный полдник, когда вошел первый доезжачий.
Небольшого роста, коренастый, мускулистый, с легкой проседью, с задубевшей от капризов погоды кожей, на редкость правильными и горделивыми чертами лица, живыми черными блестящими глазами, первый доезжачий уже начинал бороться с возрастом. Не сняв облепленных грязью сапог, раструбы которых доходили ему до середины бедра и скрывались под фалдами желтого кафтана, с охотничьим хлыстом на шее, охотничьим рогом на поясе, ножом на боку и держа в руке шапку, он стоял, выпрямившись перед маркизом.
– Ну что, Лавердюр? – спросил тот.
– Да то, господин маркиз, что ничего тут не понятно, – ответил доезжачий. – До чего я зол, и сказать не могу. Черт бы его подрал!
– Но-но, не ругайтесь, Лавердюр!
– Прошу прощения, господин маркиз и госпожа баронесса, – продолжал доезжачий, – но господин маркиз меня поймет… Мы гнали оленя ну уж никак не меньше получаса. В последний раз, как я его видел, у него уже язык вываливался. И вдруг ни с того ни с сего этот олень исчез, точно дьявол его куда скрыл. Господин маркиз согласится, что тут без колдовства не обошлось!
И он, горестно сморщившись, потер красную полоску на лбу – след, оставшийся от шапки.
– Хотите глоток вина, Лавердюр? – спросила Жаклин.
Ее вполне устраивало то, что и первый доезжачий потерял оленя.
– О! Госпожа баронесса слишком добра, – ответил доезжачий, по привычке взглянув на слепца.
– Да-да, конечно, выпейте, Лавердюр, – отозвался маркиз, словно почувствовав его взгляд. И, взяв со столика, стоявшего рядом, бронзовый колокольчик с деревянной ручкой – совсем как те, какими в колледжах возвещают конец перемены, – громко зазвонил.
Появился старик в ливрее из толстого сукна бутылочного цвета. Он шел шаркающей походкой, склонившись вперед, в чуть провисших между ногами брюках; из впалой груди доносилось хриплое дыхание, обычное у больных эмфиземой легких; трясущиеся отвислые щеки придавали ему сходство со старым быком.
– Господин маркиз звонил? – спросил он.
– Подайте мне охотничий ящик, – ответил слепой.
– Господин Лавердюр, не могли бы вы мне помочь? – обратился к доезжачему старик в зеленой ливрее.
– Ну конечно, господин Флоран, – ответил тот, ставя пустой бокал.
Двое слуг, властвовавшие десятки лет – один над домом, другой над псарней и конюшней, – всегда обращались друг к другу на «ты», но в присутствии хозяев держались несколько церемонно.
Де Воос увидел, как они подошли к странному предмету красного дерева, напоминавшему старинные столы для триктрака, но раза в три больше, и поставили его перед слепцом. Маркиз откашлялся, прочищая горло. Встал, отыскал в кармане, запрятанном в фалдах, носовой платок, сплюнул, тщательно вытер рот и снова сел. В своем обтягивающем торс кафтане он напоминал тех маршалов из рода Моглев, от которых происходил и чьи портреты с голубой лентой наискось, испещренные трещинками, слабо поблескивали на стенах, – вылитый старый маршал времен Семилетней войны, забывший надеть парик и отпустивший усы.
Лавердюр произнес:
– Госпожа баронесса разрешает? – и придвинул большую керосиновую лампу, вставленную в фарфоровую вазу. В Моглеве не было электричества.
«В сущности, каждая эпоха образует свой тип людей, – подумал Де Воос. Он вдруг увидел, насколько идеально лицо Жаклин вписывается в эпоху Людовика XVI. – Это и есть связь поколений…» И глаза его невольно снова отыскали на хрупкой шее тонкую линию позвонков.
Он вдруг заметил, что все в этой комнате – и хозяева, и слуги – одеты в необычное по форме или цвету платье. Сам он, несмотря на красный доломан и золоченые шпоры, заставлявшие людей оборачиваться на улице, чувствовал себя здесь единственным, кто был одет по современной моде. И хотя Де Воос не обладал чрезмерным воображением и не был подвержен мистике, ему показалось, что он попал в такое место, где время не властно, где люди не умирают, где гильотинированные сохраняют голову, и он бы не слишком удивился, если бы вдруг из-за деревянной панели вышел мушкетер в серой шляпе или фрейлина Екатерины Медичи.
«Но я-то что здесь делаю?» – подумал он.
Флоран снял крышку с таинственного столика. Внутри был большой, превосходно выполненный макет, в точности воспроизводивший местность вокруг замка Моглев.
В тот год, когда маркиз почувствовал, что безвозвратно погружается в темноту, он заказал себе эту дорогую и уникальную вещь. И хотя ее владельцу суждено было ослепнуть, мастер работал так старательно, что даже окрасил кобальтом русла ручьев, расцветил красным крыши в деревнях, выделил светлой зеленью рощицы среди изумрудных полей. Макет этот походил одновременно и на игрушку наследного принца, и на «походный ящик», которым пользуются для разработки учебных маневров в военных школах.
Маркиз вытянул руки – сердоликовая печатка блеснула в лучах лампы. Старые жилы напряглись. Короткие ногти принялись постукивать по макету. Наконец указательный палец правой руки остановился на небольшом кубике, ощетинившемся башенками.
– Вот замок, – промолвил маркиз.
Палец его медленно пересек парк, скользнул вдоль полоски – шоссе на Париж, – переполз через лес и замер на полянке.
– Так, теперь мы у Сгоревшего дуба, – продолжал он. – Дальше что, Лавердюр?
– Ну вот, согласно приказаниям господина маркиза, – начал доезжачий, – я принялся стучать по моей отметине ровно в одиннадцать часов. Олень тут же выскочил. И махнул через Новую просеку…
Указательный палец чуть переместился вправо.
– Через Новую просеку, – повторил слепец для себя.
– …потом он побежал по аллее Дам – господин капитан как раз там и дал мне совет, и это мне очень помогло, – сказал Лавердюр, поворачиваясь к Де Воосу. – Сразу видно, что господин капитан привык с собаками охотиться, – добавил он, стремясь польстить. – Большущий олень с черными рогами, и отростков у него, по-моему, больше двенадцати. Я трублю сигнал…
– Какой капитан? – прервал его маркиз.
– Капитан Де Воос, который тут у нас в гостях, – вмешалась Жаклин.
– Так это все тот же? Хорошо, продолжайте, Лавердюр.
Лицо старика оживилось, кровь приливала к щекам, пробираясь между морщинами, мешками, рытвинами, коричневыми пятнами, синеватыми и кроваво-красными жилками; ноздри его подрагивали от ароматов, которые чувствовал только он, – запахов грибов, плесени, глины и лошадиного пота.
Урбен де Ла Моннери переживал один из тех редких часов – между наступлением осени и концом апреля. В это время он еще ощущал прелесть жизни. А потом наступали пустые месяцы, которые «дураки называют лучшим временем года». Тогда он дремал в глубине своей мертвой жемчужины, с нетерпением ожидая приближения октябрьской охоты… Если только…
Руки его снова двинулись вперед по маршруту, описанному доезжачим. Слепец не упускал ничего. Он выжимал до конца последний зимний плод, который ему оставила жизнь.
Он желал знать, какая собака снова взяла след на лугу за Нефосским лесом, и на сколько минут олень обогнал стаю, и видел ли Лавердюр его в прыжке, и разошлись ли к этому времени от усталости копыта животного.
Маркиз и в самом деле преследовал убегающего или петляющего оленя. При помощи ладоней и фаланг он властвовал над тысячами гектаров земли. Беспрестанно подергиваясь, его пальцы опускались в долины и перемахивали через холмы, передавая ему ощущение бархатистой почвы на зеленой просеке, комьев земли, летящих из-под копыт скачущих галопом лошадей, водяных брызг во время переправы через ручей. Он прислушивался к лаю своих собак; чуть приподнявшись в стременах, он хватал рог, чтобы протрубить сигнал – поднять оленя или перебраться в другой лес, и звуки трепетали за ним на ветру, как золоченые вымпелы… Ему стало слишком жарко и захотелось достать носовой платок, чтобы промокнуть шею.
Старик Флоран придумал себе работу, чтобы остаться в комнате: подбросил дров в камин, собрал оставшиеся с полдника тарелки, стараясь двигаться как можно тише и сдерживать хриплое дыхание. Он слушал доезжачего почти с такой же страстью.
Лавердюр рассказывал долго, так как охота была нелегкой.
– И вот, господин маркиз, – закончил он, приглаживая волосы на затылке, – тут-то я, видно, и допустил промашку, теперь я и сам понимаю. Вышел я, значит, снова на след оленя за Волчьей ямой, там, где я в последний раз заметил госпожу баронессу, а потом и все остальные господа отстали от собак, прямо надо признать. «Этого оленя, – подумал я, – мучит жажда, тут уж не ошибешься». А вода в тех местах, господин маркиз знает, да и сейчас может в этом убедиться, есть только в пруду Фонрель или в ручье, который в него впадает. Вот я и подумал: собаки мои устали, день клонится к вечеру, да и Жолибуа моего, – (так звали второго доезжачего), – я уже полчаса как не слышу, – взбрело ему, видно, что-то в голову, так вот, надо срезать вправо и накрыть оленя у пруда. А он-то как раз туда и не пришел.
– Ну значит, он удрал от вас, Лавердюр, – подытожил слепец.
– Вот именно, господин маркиз!
– Вы закончили охоту, как старик – глубокий старик, Лавердюр: занимались расчетами, а про лошадь забыли.
– Да, да, точно так.
Лавердюр кусал губы и мотал головой с огорченным видом, едва сдерживая гнев. Он-то знал, что действительно стал бояться глубоких высоких зарослей кустарника, потому и принял такое решение. Никогда в былые годы он не думал об усталости – он едва ее чувствовал.
Де Воос, возвышаясь над всеми в своем красном доломане, наблюдал со все возрастающей симпатией за этим умным, воспитанным, почтительным без угодливости – что так редко бывает – человеком, чья профессия заставляла его по прихоти слепца преследовать оленей и который страдал теперь, чувствуя подступающую немощь.
Де Воос начинал понимать, почему Жаклин на обратном пути сказала ему: «Лавердюр – незаурядный человек».
Руки старика застыли.
– Ну и конечно, господин маркиз может быть уверен, я обошел весь пруд, стучал всюду, поднялся вверх по ручью. А собаки привели меня вот сюда… господин маркиз позволит?..
Лавердюр деликатно взял своими жесткими красными пальцами указательный палец слепца и провел им до берега ручья.
– С какой стороны ветер? – осведомился старик.
– Точно с запада, господин маркиз.
Указательный палец переместился к востоку, поднялся по течению ручья к его устью и, добравшись до излучины, замер. На лице маркиза появилось выражение, какое бывает у колдуна, почувствовавшего вдруг, как дрогнула палка в его руке.
– Ваш олень здесь, Лавердюр, – заключил старик. – Он идет по воде, чтобы скрыть следы и чтобы ветер, который дует ему в спину, уносил его запах вперед, подальше от собак. И вы сами знаете, Лавердюр, если уж олень после пяти часов гона войдет в воду, на берег он больше не выйдет, поэтому он может быть только здесь – лежит в зарослях тростника.
– Нет, господин маркиз, это невозможно: ручей перегорожен запрудой, и оленю там никак не пройти. Или ему нужно выходить на берег. А на откосах мои собаки ничего не нашли – тут уж только о колдовстве и остается думать.
– Вы можете болтать что угодно, Лавердюр. А я вам говорю, ваш олень здесь, – повторил старик. – Я в этом уверен! Еще при жизни моего отца, когда я был совсем мальчишкой, – а в те времена олени гораздо чаще заходили в Волчью яму, – я видел много раз, как их настигали именно в этом месте.
Лавердюр задумался и глубоко вздохнул.
– Конечно, так оно и есть, – промолвил он. – Если господин маркиз позволит, я сейчас перекушу, возьму несколько собак, из тех, которые поменьше устали, да на грузовике туда и съезжу. А не то получится, будто мы что-то упустили – потому и не взяли его.
Слепец откинулся на спинку кресла. И махнул рукой, чтобы охотничий ящик унесли.
Он устал – лицо его внезапно осунулось, и у Жаклин сжалось сердце.
Когда доезжачий вместе с дворецким вышли, слепец, чьи черты немного разгладились, спросил:
– А где Жилон?
– Я думаю, месье, – ответил Де Воос, – что он направился прямо в Монпрели, куда, впрочем, и я собираюсь вернуться.
– Ах, какая досада, – бросил маркиз. – Я не люблю, чтобы слуги затевали что-либо одни, без хозяев. Если бы я хоть видел ясно…
– Но я же, естественно, поеду с Лавердюром, дядюшка, – воскликнула Жаклин.
– Оставь, оставь, не говори глупостей. Ты устала.
– Я уже отдохнула, дядюшка, уверяю вас, и вполне могу продолжить охоту.
Она говорила правду. Надежда взять оленя влила в нее новые силы, и Де Воос с удивлением посмотрел на нее.
– Если хотите, у меня есть машина, – продолжил он. – Мне и самому довольно любопытно, чем все это кончится.
Жаклин не стала колебаться или из вежливости отказываться.
– О, это очень любезно с вашей стороны, – сказала она.
А воображение уже несло ее к излучине ручья.
– Так неужели ты туда поедешь? – спросил маркиз.
– Конечно, дядюшка, я же вам сказала!
От счастья лицо слепца разгладилось.
– Ну вот! Все же не обрекают они меня на смерть в одиночестве, – прошептал он.
Сквозь решетки, заменявшие в старом грузовичке двери, можно было видеть несколько больших собак, растревоженных и удивленных этим ночным путешествием; большой бежевый «вуазен», который вел Де Воос, ехал следом, и его включенные на полмощности фары зажигали в глазах собак странные золотые блики – словно микенские божества вдруг задвигались в глубинах храма.
Жаклин наконец удалось расшифровать имя владельца машины на небольшой серебряной пластинке, вставленной в медальку с изображением святого Кристофа.
Мадемуазель Сильвена Дюаль,
драматическая актриса.
33. Неаполитанская улица.
Это имя не соотносилось у Жаклин с каким-либо определенным воспоминанием, однако оно было ей знакомо и вызывало скорее неприятное чувство.
Она испытывала к Де Воосу все возраставший интерес, смешанный с недоверием.
Решительно, он был очень хорош собой. Полоска света, исходившего от доски с приборами, лентой обрамляла его подбородок. Жаклин почти бессознательно рассматривала волевой, чеканный профиль, абрис массивной нижней челюсти, – превосходство, уверенность в себе сквозили в каждой черте его лица, в посадке головы, в складках век, даже в самой мышечной ткани.
– У вас чудесная машина, – произнесла она.
– Да… машина одной моей подруги… она одолжила мне ее… – отозвался Де Воос. – А ваш дядюшка, значит, – продолжал он, меняя тему, – всякий раз, как идет охота, надевает соответствующий костюм и садится у камина?
– Да, и он никогда не позволяет себя раздеть, пока команда не вернется и доезжачий не доложит ему обо всем, – ответила Жаклин.
Де Воос на несколько мгновений умолк.
– Великое это счастье – до старости сохранить к чему-то страсть, – сказал он.
– А у вас тоже есть пристрастие, которое вы надеетесь сберечь? – спросила она.
Он не ответил. Не бросая руля, он снял с правой руки толстую перчатку из верблюжьей шерсти – рука оказалась довольно большой, гладкой и длинной, с прямосрезанными, ухоженными ногтями, пожалуй, слишком ухоженными для военного, – и, достав золотой портсигар, протянул его Жаклин. На мгновение взгляды их встретились. Глаза у высокого офицера были большие, рыжеватые, не столько сверкающие, сколько блестящие. Он улыбнулся. И Жаклин почувствовала некоторое смущение.
Она сидела, запахнувшись в широкое, подбитое мехом пальто. Ей было удобно на кожаных подушках сиденья, а Де Воос к тому же галантно накинул ей на колени свой бурнус.
«Почему меня не оставляет это… feeling[3] в отношении него, – подумала Жаклин. – Он любезен, он услужлив, не пользуется тем, что мы одни, и не затевает идиотские ухаживания, хотя многие другие сочли бы это для себя обязательным…»
Может быть, из-за того, как лежала его рука на руле, или из-за толстой золотой цепочки на запястье, или из-за кепи, дерзко надвинутого на лоб, или из-за парада орденов, вероятно, заслуженных, но уж слишком многочисленных, слишком выставленных напоказ (розетки кавалера Почетного легиона и четырех пальмовых ветвей Военного креста было бы вполне достаточно, зачем носить все остальные?), или, может быть, из-за этой слишком роскошной машины, принадлежавшей не ему, у Жаклин возникало впечатление, что он человек не «высокой пробы» – не «вполне порядочный», как говорили в кругу Ла Моннери.
– Вы постоянно живете в Моглеве? – спросил он.
– Нет. Часть времени приходится проводить в Париже – дети там ходят в коллеж, а часть времени – здесь, – ответила Жаклин. – И потом, только в этом году… Только в этом сезоне после смерти мужа я снова стала охотиться.
Как и всякий раз, когда в памяти ее всплывало воспоминание о Франсуа Шудлере, со времени самоубийства которого прошло уже почти шесть лет, или когда кто-то говорил о нем при ней, Жаклин на миг уходила в себя, и брови ее поднимались еще выше.
– Вы понравились бы друг другу, я уверена, – добавила она. И тотчас с неудовольствием подумала, зачем ей понадобилось прибавлять эту фразу, не соответствовавшую в полной мере ее ощущению.
– Жилон мне много говорил о нем как о человеке и в самом деле необыкновенном, – заметил Де Воос.
Жаклин промолчала. Машины выехали на проселочную дорогу, где желтая земля была вся в рытвинах. Глаза собак по-прежнему светились за решеткой грузовика.
– Впрочем, – продолжал он, – уж слишком безрадостным было бы для женщины сидеть в этой громадной казарме целый год одной.
Жаклин смущала и в то же время неудержимо притягивала к Де Воосу та властность и легкость, с какими, казалось, он вторгался в чужую жизнь, вид его словно говорил: «Вот увидите, раз я здесь, все будет хорошо».
Да и Моглев он, оказавшись здесь впервые, фамильярно назвал «громадной казармой», как будто был уже тут своим. Именно так говорил о замке когда-то и Франсуа.
Жаклин подумала, что надо следить за собой в присутствии этого человека и не произносить слов, которые могут быть истолкованы превратно.
«Да и потом, все они так страстно хотят, чтобы я вышла замуж, – размышляла она. – Мать, что ни месяц, устраивает так называемые вечеринки, представляя мне кого-нибудь; свекор хочет выдать меня за Симона Лашома; дядя Урбен вбил было себе в голову, что лучшая кандидатура – милейший Жилон, а теперь просто решил сватать меня за первого встречного!.. Даже слуги, я чувствую, этим озабочены… Неужели всем им мешает, что я остаюсь вдовой!»
– Мы, безусловно, настигнем оленя, – проговорил в эту минуту Де Воос. – Ваш дядя совершенно прав. Олень идет вверх по ручью.
И это он произнес своим уверенным, не терпящим возражения тоном.
Машины доехали до конца дороги, и Лавердюр выпустил собак.
Январь в том году выдался на редкость мягкий. Земля раскисла во время недавней оттепели, и небо чернело, словно крыша из сажи.
Лавердюр, шагая в сапогах прямо по воде и высоко подняв в руке зажженный толстый факел из соломы, поднимался по течению ручья. Карл Великий, служивший на псарне подросток, приютский ребенок, которому придумали такое необычное имя, чтобы к нему не пристало какого-нибудь прозвища («Если заслужит, – говорил Лавердюр, – я сам потом назову его Срезанная Ветвь»), полусонный, шел следом, неся факел из соломы и связку запасных пучков. Две самые храбрые собаки пробирались по воде за ними. Четверо других, в том числе и старый Валянсей, бежали по откосу.
Лавердюр без устали, гортанным голосом, понукал собак, отчаянно заставляя их искать след.
– О, гой, о, гой!
«Если только мы возьмем оленя, это, я уверена, станет важным предзнаменованием», – думала Жаклин, сама не понимая, что за смысл она вкладывает в эти слова. Несмотря на мех, ей было зябко, и время от времени она вздрагивала.
Четверть часа старательных поисков не дали никаких результатов. Вот и старый шлюз, о котором Лавердюр говорил маркизу, вырос перед ними, перегораживая русло ручья покрытыми склизким мхом досками, собирая на воде желтую пену и пузыри.
– Но должен же он был все-таки где-то пройти. Голову прямо сломать можно, – ворчал доезжачий.
Внезапно его осенила какая-то мысль, и он крикнул:
– Карл Великий! На-ка, подержи!
Он снял охотничий нож, пояс, кафтан и бросил их псарю.
– Что вы делаете, Лавердюр? – воскликнула Жаклин.
– Пусть госпожа баронесса не беспокоится, – ответил он.
И, встав на колено, склонился почти до самой воды; уцепившись одной рукой за трухлявую балку, а другой по-прежнему сжимая факел, старый доезжачий просунул тело в узкое отверстие шлюза, под его заслон, точно под нож гильотины.
«Но это же невозможно, просто немыслимо», – подумала Жаклин. И почти в то же мгновение Лавердюр буркнул:
– Ах ты, черт тебя раздери! Ну и дела! Вот уж наука! – И, резко выпрямившись, рявкнул: – Валянсей! Давай, давай, мой милый! Улюлю, улюлюлю! Карл Великий! Нечего спать, погоди, я тебя разбужу! А ну, кинь-ка мне этого пса в воду! Вот оно, улюлю-то! Вперед, ребятки!
Коренастый, приземистый старик в черном жилете с золотом, мечущийся над водоворотом в своих вымокших до нитки штанах, с зажатым в кулаке факелом, был счастлив, почти страшен и красив.
Он заметил вдавленные в мох, покрывавший нижнюю часть шлюза, две свежие борозды, оставленные оленьими рогами.
– Ах! Госпожа баронесса! – воскликнул он. – Никогда и в голову не придет, что олень, да тем более такой громадный, пролезет здесь. До чего ж хитер! Я аж ругнулся, пусть мадам меня простит, но, право слово, было отчего! Ату его, ребятки! Давай, красавцы вы мои!
– Браво, Лавердюр! Мы возьмем его! – вскричала Жаклин.
– Все может быть, госпожа баронесса, все может быть! Ату его!
Запах преследуемого, измученного оленя остался в бороздах на доске, ибо Валянсей дважды коротко подал голос. И пять остальных собак полувброд-полувплавь ринулись вслед за ним под заслон.
Лавердюр отошел от воды на откос и надел кафтан. Он схватил длинный шест и принялся бить им по воде, создавая как можно больше шума.
Внезапно у самой излучины, на которую указывал маркиз, все шесть собак залились лаем, и темный силуэт, шумно «плюхнув», скакнул вдоль ручья и выпрыгнул на берег.
– О, гой! О, гой! – завопила Жаклин.
– Я же говорил вам! – воскликнул Де Воос.
Жаклин обратила на него благодарный, полный доверия взгляд, будто это была его заслуга.
И они бросились бежать, подворачивая ноги, спотыкаясь об ивовые пеньки и комья стылой глины.
– С головы заходи, с головы! – кричал Лавердюр, распаляя собак.
Олень, хоть и окоченевший в холодной воде, успел все же немного восстановить силы. Он ускользнул из-под носа у собак, и его легко было снова потерять в темноте.
«Да, то, что мы нашли его и подняли, – уже прекрасно», – подумала Жаклин.
А олень несся прямо вперед, и его силуэт словно парил над землей. Однако вместо того, чтобы нырнуть в подлесок, он со всего маху врезался в дерево.
Послышался глухой удар. На какое-то мгновение олень замер, оглушенный; затем вновь устремился вперед, но на сей раз по кругу, то и дело, точно в припадке безумия, задевая обо что-то рогами, будто атакуя целую армию великанов; наконец он прислонился к дереву, задыхаясь, выставив голову навстречу собакам…
Подбежали люди с факелами. Старый олень гордо стоял, как бы опершись на черноту ночи; его темная шкура слиплась от воды, широкая грудь вздымалась от учащенного дыхания; он поводил громадными, выставленными вперед рогами и временами гневно потряхивал головой.
Шестерка псов, задрав морды, окружала его кольцом; собаки заливались гортанным диким лаем, какой появляется у них только в минуты гона.
– Но почему он натыкается на все деревья, Лавердюр? – спросила Жаклин.
– Ослеп он, госпожа баронесса, – ответил доезжачий, сдергивая шапку. – Да погодите, сейчас сами увидите!
Приблизившись к животному на безопасное расстояние, Лавердюр поводил перед ним факелом. Олень втянул носом дым, но не шевельнулся; его неподвижные стеклянные глаза по-прежнему были широко раскрыты и сверкали красным от пламени огнем.
– Случается так, госпожа баронесса, – сказал Лавердюр, – случается с загнанными оленями. Что-то у них там лопается в голове, и они потом ничего не видят. Этот олень и сам подох бы завтра или послезавтра… Точно, понимаю, странный случай вышел, прямо-таки забавный, – добавил он, догадываясь, о чем подумали разом Жаклин и Де Воос…
Он раздавил ногой огарок факела, достал охотничий нож и почтительно произнес:
– Не думаю, чтобы госпожа баронесса пожелала сама его отколоть…
Жаклин отрицательно помотала головой и взглянула на Де Вооса.
– Если только госпожа баронесса не пожелает оказать честь господину капитану, – после минутного колебания добавил Лавердюр…
Однако с незапамятных времен обычай – никто притом не уважал его больше, чем Лавердюр, – повелевал, чтобы животное убивал хозяин замка или же – в его отсутствие – доезжачий, но никогда не гость.
И все же исключительные обстоятельства этой необыкновенной охоты позволяли нарушить правило, а главное, ясно было, что между Жаклин и Де Воосом протянулась некая нить, о чем сами они пока не догадывались, но что побудило старого доезжачего действовать так, как если бы он желал создать ситуацию, одинаково лестную для обоих.
– Вы не возражаете… – промолвила Жаклин.
– Весьма охотно, – ответил Де Воос, схватив большой, длинный, как штык, нож.
А старый олень, пока шел этот обмен любезностями, чуял приближение смерти.
Де Воос сбросил бурнус на землю, чтобы не сковывал движения. Животное с выставленными вперед рогами было одного с ним роста, но к воодушевлению, какое испытывал Де Воос, примешивалось сознание того, что олень стар и слеп, и офицер вдруг почувствовал, что ему было бы легче убить человека.
– Осторожней, господин капитан! Хоть олень и слепой, у него еще для защиты сил хватает, – предупредил Лавердюр. – Надо зайти сбоку и приставить лезвие вот сюда, к ямке возле плеча. – Большим пальцем он указал нужное место на собственном кафтане. – А после найти мякоть и надавить…
– Да, да, – пробормотал Де Воос.
– А ты, Карл Великий, зажги-ка еще факел да возьми шест, чтобы ударить его по рогам, если понадобится.
Собаки перестали лаять; они тоже выжидали, вздыбив шерсть и сверкая клыками.
Жаклин вспомнила Франсуа – как он, под улюлюканье соскочив с лошади, шел к оленю, совсем как сейчас Де Воос, и ее охватила та же смешанная с гордостью тревога.
Олень, почуяв приближение человека, еще ниже опустил ветвистые рога, резко выдохнул и весь подобрался, будто перед прыжком.
– Сбоку заходите, сбоку, господин капитан! – крикнул Лавердюр, тоже приближаясь к животному.
Раздался страшный вой. Олень выпрямился, подцепив отростками рогов какую-то извивавшуюся массу, и швырнул ее на землю.
– Ах, черт побери, сволочь ты этакая! – вскричал Лавердюр. – Поторопитесь, господин капитан!
На земле, суча ногами, с распоротым животом валялась собака.
Де Воос, кинувшись на оленя, вначале почувствовал под ножом сопротивление кости, переместил острие и, налегая всем корпусом, нанес такой сильный удар, что едва не потерял равновесие – до того легко вошло лезвие по самую рукоятку. Он не ожидал, что у столь могучего животного окажется такая нежная плоть. Старый олень упал на колени, потом, слабо вскрикнув, завалился на правый бок, и кровь хлынула у него изо рта, стекая по языку.
Жаклин жадно глотнула воздух – последние несколько секунд она вообще не дышала.
– Мне очень жаль собаку. Я недостаточно быстро шел, да? – спросил Де Воос, сохраняя полнейшее хладнокровие, и отдал нож доезжачему.
– О нет, господин капитан! Это с кем хочешь может случиться, – ответил как-то слишком поспешно Лавердюр. – Наоборот, решительности господина капитана можно позавидовать.
Он снова стащил с головы шапку. Делал он это бессознательно, лишь только к нему обращались, – будь он на лошади или пешком, была бы рука свободная.
Он вытер нож о шерсть собаки, которая, лежа со вспоротым животом в луже крови, время от времени еще мелко подрагивала, легонько провел ей по спине массивным, набухшим от воды сапогом и произнес:
– Бедняга Артабан, смотри, пришла твоя очередь. Самым храбрым всегда и достается. Но в конце-то концов, лучше он, чем господин капитан, верно ведь?
Только тут он почувствовал, как въедается в кожу ледяная сырость. «Вот так и ревматизм заработаешь, если не еще что похуже, – подумал он. – Ох и разорется сейчас Леонтина, если я вернусь в таком виде». Внезапно настроение у него испортилось, но придраться было не к кому. «Может, если б я сам его отколол или если бы Карл Великий бросил в него шест… Вот… Вот… что значит…»
Старый Валянсей, оскалившись, стал осторожно подбираться к вывалившимся кишкам своего сородича.
– Назад! – крикнул Лавердюр, яростно отбросив пса в сторону. – Не дам я тебе им лакомиться.
Он достал из кармана другой нож, меньшего размера, со стопорным вырезом и тонким лезвием, и, подойдя к туше оленя, вспорол ее одним ударом от ребер до паха. Теплый острый запах дичины заполнил рощу.
В столь поздний час не могло быть и речи о том, чтобы устраивать церемонии, – важно было поскорее вознаградить собак.
– Улюлю, ребятки, улюлю! – крикнул Лавердюр, сопровождая свои слова широким жестом.
Пять псов с взъерошенными загривками кинулись на массу кишок, погрузились в них по самую грудь, клацая зубами и рыча.
Заслышав, как лакомятся другие, Артабан грустно открыл глаза – в них было желание присоединиться к пиру: последним усилием воли он попробовал подползти и тоже полакомиться своей долей добычи, но голова его снова упала на землю, и больше он не шевелился.
Остальные продолжали разгрызать хрящи, оспаривая друг у друга внутренности оленя, полные пахучих трав и секреций, выдирая длинные шелковистые кишки, вгрызаясь клыками в их опаловую, зеленоватую и рубиновую ткань.
Жаклин наблюдала спектакль во всех подробностях со смешанным чувством отвращения и вожделения.
– Это первый олень, которого вы откололи? – спросила она.
– Первый, – ответил Де Воос, улыбаясь.
Ни одна охота не давала еще Жаклин такого ощущения власти, как этот ночной гон и дикарское лакомство при свете соломенных факелов, – ощущение власти не только над тем, что можно купить, – над собаками и людьми, – но и над всем остальным – над небом, над долиной, над лесом, над вольным зверьем, его населяющим.
– Что это я говорил госпоже баронессе? Да, олень-то с четырнадцатью отростками, – констатировал Лавердюр, выражая на свой манер похожее чувство гордости. – Такого в наших краях не часто встретишь. Господин маркиз будет доволен.
За несколько минут собаки растащили, сожрали, проглотили гигантскую массу внутренностей, и громадный олень остался полый, как старый фрегат, сидящий на мели.
В руках маленького псаря угас последний факел.
Наутро, перед отъездом из Монпрели, где он ночевал у майора Жилона, Габриэль Де Воос получил правую ногу оленя с еще свежей мягкой кожей, надрезанной полосками, – ее привез Лавердюр в обычной рабочей одежде. Посылку сопровождала тисненая карточка баронессы Франсуа Шудлер, на обороте которой было несколько слов, набросанных мелким торопливым почерком: «От моего дяди. Вы вполне это заслужили! Приезжайте охотиться, когда захотите».
Задвижка засова на воротах уже не входила в скобу; ее заменила цепочка с большим висячим замком, которым по вечерам и запирали ворота. Двор был усеян старыми колесами от тачек, вышедшими из употребления садовыми инструментами, сельской утварью. Конюшня была пуста. Тонкая струйка мочи сочилась из стойла, где еще оставалась одна корова. За провисшей сеткой бродили куры, утопая в собственном помете.
Симон Лашом не приезжал в Мюро, когда умер его отец.
Последний раз он был здесь больше десяти лет назад, да и то проездом, на несколько часов, получив увольнительную в конце войны. Вид родимого дома, который всегда представал в его памяти убогим и презренным, неожиданно вызвал в нем прилив нежности, мимолетной, необъяснимой и глупой.
Все было разъедено, все проржавело, все сгнило от старости и дождей. Ставни слетели с петель, штукатурка большими кусками отстала от стен, обнажив старую дранку; крыши осели, и Симон шагал по осыпавшейся черепице, хрустевшей, точно сахар, у него под ногами.
Мамаша Лашом работала в саду, пригнувшись к земле. Сначала Симон увидел только огромный черный зад старухи.
– Мама, – окликнул он.
Мамаша Лашом обернулась, медленно, с трудом, выпрямилась и посмотрела на сына, шедшего к ней между двумя рядами засохших яблонь.
– Смотри-ка, это ты, – произнесла она, никак иначе не выказывая своего удивления. – Если б ты не сказал «мама», я бы тебя небось и не узнала. Гляди, и облысел уж совсем, и растолстел, и одет как барин.
Симон машинально провел рукой по оголенному лбу, где лишь посередине остался пучок коротких каштановых волос.
Мать и сын не расцеловались. Еще несколько мгновений они изучали друг друга, высматривая, какие изменения произошли в каждом.
Мамаша Лашом двигалась мало. Она являла собой все ту же бесформенную колышущуюся массу. Только правое веко у нее закрылось, толстое, как скорлупа грецкого ореха, и на щеках появились седые волоски, а между волосами на голове, забранными в пучок, широкими розовыми проплешинами светилась кожа.
– Раз уж ты себя побеспокоил, знать, большая у тебя нужда поговорить со мной, – вытерев руки о бока, наконец произнесла она. – Давай зайдем в дом.
Даже в старости она не согнулась и по-прежнему на полголовы возвышалась над сыном. Они шли бок о бок по заросшей травой дорожке, чувствуя себя совсем чужими, и все же было между ними какое-то сходство: у обоих на голове осталось совсем мало волос, у обоих тяжелая походка враскачку, оба несли в себе свои болезни, она – фиброму и водянку, затаившуюся под грязным передником, он – уже заметный животик сорокалетнего, слишком хорошо питающегося человека.
Симон оглядывал землю по обе стороны дорожки, наполовину перекопанную в залежь: первое волнение уже угасло в нем. Старуха шла, все укрепляясь в своем подозрении, не обращая, казалось, внимания ни на что. Перед порогом кухни она сбросила сабо.
В просторной темной комнате на Симона тотчас дохнуло запахом перебродившего вина, прокисшего молока, дыма и грязной воды после мойки посуды – запахом, который сопровождал его в детстве: так пахло от матери, так пахло все – предметы, ткани, продукты, воспоминания. Исчез только едкий запах пота, добавлявшийся раньше, когда был жив отец.
И Симон тотчас перевел взгляд на нишу между очагом и ларем для хлеба, зная, что увидит сейчас самое тягостное из всего, что мог предложить ему отчий дом.
Скорее скорчившись, чем сидя на стареньком, продавленном стульчике, брат Симона дул на крылья примитивной мельницы из двух насаженных крест-накрест на веточку бузины кусков картона.
– Пойди сюда, Луи, пойди поздоровайся, – сказала мамаша Лашом. – Давай не бойся, это Симон.
Существо, которое неуклюже поднялось с места, опираясь на ларь, было в коротких штанах и черном фартуке. Он двигался, как разлаженный автомат, выбрасывая вперед тщедушные ноги и вывернутые руки. Он был выше Симона. Кожа на его лице, на скрюченных кистях рук, на торчащих коленях была всюду холодного цвета зеленоватой бронзы; на яйцевидном лице, обрамленном двумя прядями, выбившимися из-под берета, не было ни единой морщинки. Отвислая губа блестела от слюны. Черные, бархатистые глубокие глаза чудовищно косили.
Идиот пробормотал: «…звуй», втянул слюну и, вернувшись в свой угол, взгромоздился на ларь и свесил ноги.
– Вот видишь, он молодцом. Он сейчас очень смирный, – сказала мамаша Лашом.
Симон взял стул, который оказался до того грязным, что он, по прежней крестьянской привычке, садясь, задрал полы пальто.
– Сколько же ему теперь лет? – спросил он.
– Ох, это трудно сосчитать, – ответила старуха. – Он на три года старше тебя. Выходит, ему сорок четыре.
Идиот, бросив мельницу на пол, взял школьную грифельную доску и принялся, скрипя карандашом, чертить какие-то непонятные знаки.
– Вообще-то, – сказала мамаша Лашом, – он ведь вроде тебя: если бы мог, он бы тоже хорошо учился.
Наступила пауза.
– Выпьешь немного? – снова заговорила она, направляясь к буфету за бутылкой.
Она предлагала ему выпить, точно постороннему, и, точно посторонний, он решил не отказываться от стаканчика обжигающей водки, чтобы не обидеть ее.
– Хороша, – промолвил он.
– Эту как раз и отец твой любил, – подхватила она. – Э-э! За каждым водится грешок. Теперь-то, когда его уже нет, меня это больше не мучает.
Она тоже наконец села и умолкла, разглядывая Симона из-под века, похожего на половинку грецкого ореха.
– Ты в прошлом месяце деньги получила? – спросил он, пытаясь завязать беседу.
Симон регулярно посылал матери перевод на триста франков, в которых она, впрочем, совершенно не нуждалась. Она с жадностью прятала эти три ежемесячно получаемых банкноты в старую коробку из-под печенья, где они и копились.
– Да-да, – ответила она. – Спасибо тебе. Ох! В этом мне на тебя жаловаться не приходится. Не то, что раньше. Я как раз давеча говорила мамаше Федешьен: «Есть у меня чем гордиться. Есть у меня сын, он в нищете мать не оставит. Он благодарен за все, что для него сделали».
Только тут мамаша Лашом, казалось, почувствовала некоторое волнение от встречи с сыном. Белесая влага показалась из-под тяжелого века – она задрала юбку и, отыскав в кармане фиолетовой, задубевшей от жира нижней юбки носовой платок, вытерла глаза.
– Ну вот… все ж таки приехал… все ж таки приехал, – несколько раз повторила она, судорожно вздыхая.
– Я выдвигаю свою кандидатуру в депутаты, – проговорил Симон.
– Это что же, выходит, ты будешь депутатом? – спросила мамаша Лашом, перестав вытирать глаза.
– Возможно… надеюсь.
– Ну, раз надо, чтоб были они, дармоеды-то эти, так лучше уж ты будь, а не кто другой, который этим воспользуется.
Симон попытался ей объяснять, почему он выдвигает свою кандидатуру в родном департаменте и какие у него шансы. Он нашел простые слова, чтобы выразить то, что явилось следствием многолетнего упорного притворства, сотен деловых обедов, стольких нужных контактов и умелой лести, наконец, стольких утренних часов, проведенных с карандашом в руке над сетью поперечных линий и пунктиров, сероватых пятен и заштрихованных мест, составлявших карту выборной кампании во Франции.
Теперь все решено, все поставлено на место: у Симона есть поддержка, есть деньги, есть агенты, есть газеты.
Мамаша Лашом, вновь подозрительно насторожившись и приспустив веко, слушала, казалось, ничего не понимая. То, что ее сын стал таким важным человеком, что он ужинает с министрами и разными президентами, нисколько ее не трогало. Все это происходило в мире, беспредельно для нее далеком, как, скажем, Индия, и никакой рассказ не мог ей дать о нем представление. Она думала, что президент Республики по-прежнему Эмиль Любе.
– А ему что ж, выходит, не сын будет наследовать? – Потом вдруг, глядя на лацкан пальто Симона, она спросила: – А Почетный легион-то твой деньги приносит?
– Нет, – ответил Симон.
– Надо же, странно. Потому что у нового-то учителя – ты его не знаешь, – так вот, у него медаль, и он за нее получает.
Симон почувствовал, что теряет время зря. Дурачок с противным, бьющим по нервам скрипом по-прежнему водил грифелем по грифельной доске.
– Я тут снял дом в Жемоне, ты знаешь, дом Кардиналов, – проговорил Симон.
– Раз снял, значит, он тебе по вкусу.
– Нет, дело не в этом, а в том, что мне это нужно.
– Ну, коли думать о деньгах – сколько тебе это будет стоить, – так лучше бы уж в новом расположиться, чем в этой-то развалине.
«Развалина», о которой говорила мамаша Лашом, находилась в нескольких километрах от ее дома, в соседнем кантоне. Ансамбль зданий состоял из большого квадратного дома с черепичной крышей, бывшего когда-то домом приходского священника, к которому в XVIII веке был пристроен превосходный жилой корпус из белого камня. Десять комнат. Аллея двухсотлетних лип и большой, спускающийся к реке луг, который зимой наполовину затопляло. Словом, дом этот, будь он расположен не в городке и не принадлежи он обычному пенсионеру, мог бы именоваться «маленьким замком».
Он был достаточно просторен, чтобы внушить почтение избирателям, но все же не настолько, чтобы казаться чрезмерно роскошным. А главное, он позволит забыть дом в Мюро.
– Я думаю, бессмысленно нам иметь два дома, – заговорил Симон. – Так что лучше будет, если ты поселишься со мной, а этот дом мы бы продали.
Мамаша Лашом слегка выпрямилась на стуле и пристально посмотрела на сына своими глазами без ресниц – один глаз у нее был круглый, как глаз ночной птицы, а другой почти закрыт.
– А-а! Вот, значит, для чего ты явился… – прошептала она. Помолчала минуту и медленно произнесла: – Нет. К чужим я не пойду.
– Но, мама, я ведь не чужой!
– Я знаю, что говорю. Во-первых, там будет твоя жена.
– Да нет же, мама. Ты ведь знаешь, мы с Ивонной уже много лет живем врозь. Мы и в Париже не живем вместе. Даже не встречаемся.
– А зачем же ты тогда, скажи на милость, на ней женился? – осведомилась старуха.
Симон пожал плечами и подумал: «Ну вот, опять все сначала».
– И потом, тут все мое, – продолжала она. – А тот дом – чужой, не поеду я туда.
Симон объяснил ей, что заключил арендный договор, предусматривающий продажу дома. И если выборы пройдут удачно, он купит его.
– А если тебя не выберут?
– Ну, тогда мы будем снимать его до…
Он чуть не сказал «до твоей смерти», но осекся, однако старуха поняла.
– Тогда почему ты не хочешь, чтобы я подохла здесь? – сказала она. – И кладбище тут рядом. Тебе не так долго осталось ждать, пока я туда отправлюсь. Да и потом, не люблю я Жемон… Нет, сынок, нет, – продолжала она, – такие старухи, как я, с места на место уже не переезжают. Да и потом, в доме Кардиналов много лестниц. А мне с моими венами не под силу по ним ходить. Во, взгляни!
Она снова подняла юбку, затем нижнюю юбку, обнажив огромные ноги, покрытые такими буграми, что можно было подумать, будто она умудрилась засунуть под грубый черный чулок никак не меньше дюжины яиц.
– Бывает даже, они гноятся, – не без гордости объявила она. – Нет, дружок, нет, не следует старикам жить вместе с молодыми. Ты должен с разными людьми встречаться, а я тебе много чести не прибавлю.
«Но еще больше ты позоришь меня, находясь здесь», – подумал Симон.
В его распоряжении оставалось совсем немного времени, чтобы вжиться в новую роль – сыграть «выходца из народа, из семьи простых тружеников, достигшего всего исключительно благодаря личным достоинствам и прославившего свой родной департамент».
А для этого нужно было стереть воспоминания об отце-пьянице, поместить мать в достойную полубуржуазную обстановку, избавиться от брата-идиота.
Симон знал, что настоящее благополучного человека в глазах толпы важнее его прошлого и что удача заставляет забыть даже преступление. Немного ловкости в сочетании с уверенностью в себе – на собрании избирателей никто не крикнет ему из зала: «Небось ты не был такой гордый, когда отец твой валялся в луже», а вместо этого старики крестьяне полушутливо-полурастроганно скажут: «Ах! Господин Лашом, знатный он был человек, отец-то ваш, шутник был; помнится, в базарные дни мы с ним, бывало, вместе душу отводили», – и сочтут за честь вспомнить об их давней дружбе.
А о калеке скажут, понизив голос: «Что ж, такое горе в каждой семье может случиться…» – потом и вообще перестанут вспоминать.
– Да и вообще, твоему бедному брату хорошо тут у нас. Ему, может, совсем плохо будет в другом-то месте, – сказала мамаша Лашом.
– Вот как раз, что до Луи…
Симон посмотрел в глубь комнаты: теперь идиот сидел, поджав ноги, высоко задрав колени, упершись подбородком в холодную аспидную доску, и, словно животное, чувствующее приближение беды, не сводил скошенных глаз с гостя.
Симон инстинктивно понизил голос, хотя брат и так не мог его понять.
– Самое лучшее для него, да и для всех, я думаю, было бы поместить его в городскую богадельню… Естественно, не для бедняков, – поспешил добавить Симон. – Я буду платить за его содержание, чтобы он имел все, что нужно, и ты сможешь навещать его, когда захочешь. И ты не будешь тогда так от него уставать…
Лицо мамаши Лашом выражало столько угрозы, в открытом глазу вспыхнул такой огонь, что Симон запнулся.
– Вон оно что! Вон оно что! А, ну да, ну да! – воскликнула старуха. – Выходит, теперь ты хочешь упрятать своего брата в богадельню! Вот чего ты надумал! Да я лучше бы задушила его собственными руками, чем выслушивать попреки, что позволила запихнуть своего ребенка в приют. Мало, что ли, я крест свой несла, чтобы все было как надо, так вот теперь, когда я совсем одна, его, значит, решили отобрать у меня. Вот оно что…
И она машинально принялась искать носовой платок, чтобы вытереть глаза, хотя и не плакала.
– Вот, выходит, и все, чем ты можешь отблагодарить? – продолжала она. – После всего, что для тебя сделали, что тебя выучили, когда другие парнишки в твоем возрасте уже вовсю работали, а отцу твоему пришлось даже батрака вместо тебя нанимать… при нашей-то бедности… тебе, значит, нынче за нас стыдно, нет, вы видали, тебе нынче за нас стыдно! Да я пойду и скажу им, пойду и скажу: «Вот он какой, ваш распрекрасный депутат. Глядите на него! Выбросил мать на улицу, а брата запихнул в богадельню». Да я повсюду афиши расклею, ясно тебе, и пусть они читают, кто ты такой есть!
Она кричала, не вставая с места, брызгая слюной, уперев руки в бока, а ее громадная отвислая грудь судорожно вздымалась.
Симон с ненавистью смотрел на эту массу жирных изношенных клеток, способную теперь исторгать лишь гной из язв, серу из ушей, сукровицу из глаз и все же пытавшуюся чинить препятствия его воле. И, хотя эта наполовину сгнившая туша когда-то произвела его на свет, их ничто уже не соединяло – как ничто не соединяет дерево с пушистой плесенью, откуда вышел его росток.
– Хватит, а теперь помолчи! – вскричал Симон, разъярившись и стукнув ладонью по пыльному столу.
В эту минуту в глубине кухни послышалось какое-то бульканье – это идиот забавлялся, слушая их спор. Забывшись, он выпустил из рук грифельную доску, и та с грохотом раскололась, ударившись о каменный пол. Калека тотчас захныкал.
Мамаша Лашом, вне себя от злости, подобрала куски и сунула их под нос Симону.
– На, гляди! Гляди, что ты наделал! – закричала она.
Симон пожал плечами.
– Ну и что, я дам денег на другую, – сказал он.
И почувствовал вдруг глубочайшее отвращение. Ну почему он не выставил свою кандидатуру в другом округе, в каком угодно, на другом конце Франции.
На мгновение его охватило отчаяние. Не потому, что он боялся угроз мамаши Лашом. Но и заросший крапивой сад, и продымленная кухня, и калека, которому старуха мелкими движениями промокала теперь лицо, – все это слишком напоминало Симону то, что он надеялся забыть, что уничтожало его уверенность в себе.
Невозможно построить великую судьбу на столь жалкой почве. Ни одно из тех качеств, что привели его к успеху, не было врожденным. Все, что позволило ему возвыситься, было воспринято от учителей, от «хозяев», от женщин. В крови же у него были только упорство, беспринципность и эгоизм.
Достаточно ли крепкой окажется его непрочная, шаткая, построенная из ворованных материалов конструкция, чтобы он мог вознестись еще выше, не рухнет ли она, как только обстоятельства потребуют от Симона чего-то большего, чем собственная выгода?
– Лучше бы уж я был приютским ребенком, – глухо вымолвил он. – Материально большой разницы я бы не ощущал, зато хотя бы мог думать, что у меня были другие родители.
Произнеся это, Симон высказал сокровенную мечту, которую лелеял между шестью и двенадцатью годами, надеясь, что кто-нибудь однажды вдруг скажет, что он подкидыш.
– А я бы уж лучше тебя выкинула! – крикнула старуха. – Не видела бы тогда столько горя. Мари Федешьен не знает, как ей повезло, что она потеряла своего мальчишку на войне! А теперь заруби себе на носу, – продолжала она, обхватив рукой плечи калеки. – Никто не заставит нас отсюда уехать, покуда я не подохла… а за этим дело не станет, уж будь покоен.
– Рано радуешься, – проговорил Симон.
– А что до тебя, вот тебе Бог, а вот – порог, – отрезала она.
Симон поднялся, снял очки, провел рукой по курносому лицу, затем вновь надел их, предварительно протерев большими пальцами.
Старуха решила, что он смирился.
– Хорошо, – спокойно проговорил он. – Ты забываешь при всем при том, что я имею права на часть отцовского наследства, которые до сих пор не предъявлял. Но теперь, раз ты упрямишься, я потребую продажи. Все пойдет с торгов, а ты потом делай что хочешь.
– И ты такое вытворишь? – прошептала мамаша Лашом.
– На моей стороне закон, – ответил Симон.
Она чуть не ответила, что законы делаются против честных людей, но на сей раз удар был слишком жестоким, и она поняла, что Симон сильнее ее.
Она снова села, покачала головой и застыла в молчании. Симон выждал паузу, достаточную, чтобы мать могла в полной мере осознать свое поражение, затем, положив руку ей на плечо, тихо произнес:
– Ладно, мама, я вернусь на следующей неделе. Вот увидишь, в Жемоне тебе будет куда лучше.
«Может, мне и повезет, и я тут помру – тогда и переезжать не придется», – подумала мамаша Лашом, когда сын вышел.
Долго еще она сидела неподвижно, потом тяжело поднялась, пошла за лоханью, подтащила ее к печи и наполнила горячей водой.
– Давай, Луи, – позвала она, – идем помоемся. Нынче не банный день, но неважно. Пока пользуйся, бедный ты мой мальчик, – может, теперь я не часто смогу тебе помогать.
Она сняла с калеки детскую одежду, помогла залезть в лохань.
– Осторожней, не опрокинь.
И мамаша Лашом, заливаясь слезами, всецело отдалась счастливой усталости, купая в деревянной лохани голого сорокалетнего верзилу с искривленным позвоночником, бронзовой кожей и пустыми гениталиями, – взрослого младенца, воплотившего для нее самым примитивным, самым жутким образом заветную мечту всех матерей – навсегда оставить своих сыновей в состоянии детства.
Накануне дня, назначенного для переезда мамаши Лашом, калеку увезли на «скорой помощи», заказанной Симоном специально, чтобы соседи подумали, будто состояние несчастного внезапно ухудшилось.
Старуха прорыдала ночь напролет, собирая все внутренние силы в надежде умереть за те несколько часов, что ей осталось жить под крышей родного дома. Но ее мольба не была услышана.
Наутро мамаша Лашом пошла причаститься к первой мессе, затем поднялась на кладбище, чтобы взять горсть земли в мешочек, который она сунула в карман нижней юбки. Встав на колени у могил, она забормотала:
– Скоро и меня сюда принесут. Прямо вот тут, на днях, совсем на днях, и что же это я нынче ночью-то помереть не могла?
Почти одновременно с грузовиком для перевозки вещей подъехал на своей машине Симон.
Он спокойно, но быстро отдавал распоряжения, точно судья, выбравший утро для смертной казни.
– Это… это… это, – говорил он грузчикам, отбирая какие-то вещи, которыми еще можно было пользоваться. А мать останавливал: – Нет, мама, это не надо, оставь!
– Но это ведь может еще пригодиться, – стонала старуха.
Ему пришлось чуть не бороться с матерью, чтобы она не увезла с собой кучу старого прогнившего скарба, оплетенных бутылей для вина и прочей рухляди. Она цеплялась за все: за десять почтовых календарей, висевших на гвозде, один поверх другого, за три горшка на окне, где герани вымерзали каждую зиму, за сломанную деревянную солонку, чье место она так хорошо знала, что могла нащупать ее даже в темноте.
За каждый предмет она начинала битву, и каждое сражение она проигрывала.
Через каких-нибудь несколько минут ей предстояло расстаться со своим огородом, своей свинарней, своим проржавевшим инвентарем, со своей пустой конюшней, где она помнила всех трех лошадей, что сменились за время ее хозяйствования в доме, с двуколкой, в которой она ездила когда-то на рынок и которая теперь взывала к ней воздетыми в мольбе оглоблями.
Она лишится привязывавшей ее к жизни заботы о нескольких гектарах, разбросанных по землям общины; одни она оставляла под пар, другие сдавала в аренду на весьма странных условиях: «Будешь давать мне двести пятьдесят франков в год и еще мешок овса». Потом она выменивала овес на мед. А сплетни, которыми она обменивалась здесь с соседями, – люди в Жемоне ее совсем не интересовали, потому что она ничего о них не знала…
Доведенный до бешенства ее причитаниями, Симон в конце концов велел развести посреди двора большой костер и сам бросил туда все, что мать, по его мнению, не должна брать с собой. С неутихающей яростью он сдернул с окон засиженные мухами занавески, схватил полную охапку барахла, заполнявшего низ платяного шкафа, и полностью вытряхнул в огонь вместе с высохшими пробками, мотками пыльных веревок, треснувшими сабо.
Едкий густой дым поднимался от этой засаленной груды и стлался над гумном, коровником и домом.
Симон с черными руками, в покрытой пылью куртке (он без конца твердил себе: «Мог ли я подумать, что мне придется делать все это собственными руками!») созерцал и одновременно творил этот спектакль, испытывая неведомую дотоле жгучую, горькую, раскрепощающую гордость за себя. Голубоватые язычки пламени, плясавшие на отцовском головном уборе, столб дыма, уносивший семейный скарб, благотворно влияли на Симона, как влияют на нас символы разгаданных снов, только в жизни получалось в тысячу раз сильнее, в тысячу раз действеннее. И, как бывает во сне, он словно со стороны наблюдал за своими действиями.
Глядя на оседающий пепел почти закрывшимся глазом, мамаша Лашом все повторяла:
– Прямо вот тут, на днях! Совсем на днях… Тебе чуток осталось ждать.
Она крепко прижимала к груди коробку из-под печенья, куда прятала деньги.
Когда сдвинули с места буфет, штук пятьдесят золотых монет покатились по земле с резким и радостным звоном. Мамаша Лашом, вконец обезумев от предстоящего отъезда, который был для нее концом света, забыла про свой тайник. На ее лице проступили смущение и испуг. Симон насмешливо и злобно посмотрел на нее.
– То-то ты порадовался, что нашел их! – крикнула она ему. – Это уж – я могу быть спокойна – ты в огонь не бросишь.
Когда все было вынесено и на стенах с отметинами в тех местах, где стояла мебель, остались лишь толстые, как покрывала, сети паутины, старуха обошла все три почернелые и запаршивевшие комнаты, которые вдруг стали значительно больше. Затем веткой самшита, которую она сумела спасти от гнева Симона, из кропильницы благословила дом, точно покойника.
Наконец она водрузила на свои розовые проплешины чепец в форме короны, расшитый черным бисером, и завязала ленты под подбородком. В заключение она объявила, что готова к отъезду. Однако пока они ехали по поселку, Симону пришлось трижды остановиться, чтобы она могла расцеловаться с Мари Федешьен, Мари Веде и Мари Шосон.
– Да не плачь ты, – говорили ей старухи. – Гляди, как тебе повезло: будешь жить в большом доме, и у сына твоего видишь какая машина – будет всюду тебя катать.
– Да-да, это уж точно – повезло, – отвечала мамаша Лашом, из тщеславия соглашаясь с ними. – Это я из-за моей кровати.
– А чего из-за кровати-то? Ты ведь берешь ее с собой?
– Да, но тут-то она стояла, как положено, лицом ко гробу Господню. А там откуда я знаю, где он там, гроб-то?
– О! Да кюре тебе покажет, – успокоила ее Мари Веде.
В конце концов Симон увез мать, походившую на тюк мокрого белья.
Она боялась машины, и это немного отвлекло ее от переживаний.
– Ты что же, поехал не по дороге в Жемон? – спросила вдруг она.
– А мы проедем через Бурж, – ответил Симон, – я хочу сделать тебе сюрприз.
Она сидела настороже, растекшись на подушках, вздрагивая от ужаса всякий раз, как они кого-нибудь обгоняли.
В Бурже Симон остановил машину перед «Нувель Галери». Он решил одеть мать во все новое.
– Ох, нет, сынок, ох, нет, – простонала старуха, – ты же видишь, я и шагу ступить больше не могу. Да и вообще-то мне ничего не нужно. Нет, не могу я.
Но он безжалостно тащил из отдела в отдел, с этажа на этаж эту задыхающуюся груду, двигавшуюся между прилавками, как корабль-сухогруз между причалами порта.
Он купил матери два черных платья, пальто, стопку толстого белого белья, обувь и гигантский корсет, твердый, словно доспехи, сшитый, казалось, из полотна для волосяных матрацев.
– Да зачем же столько денег-то зря тратить, раз я и поносить все это не успею? Ведь на днях-то уж мне ничего больше не понадобится!
Симон едва ли проявил бы больше стараний, вздумав приодеть какую-нибудь молоденькую работницу, намеченную в любовницы.
Выйдя из магазина, он остался доволен видом, какой приобрела старуха: теперь она выглядела как добропорядочная крестьянка, любящая мать, готовая плакать от радости при каждом успехе сына. Он создал из нее скромную жительницу республиканского Эпиналя[4], и ее присутствие в жемонском доме не только не скомпрометирует его, а, наоборот, поможет доказать, насколько он остался верен своим крестьянским корням. Народ охотно умиляется, глядя на хороших сыновей, и ценит семейные добродетели своих избранников.
– Говорю тебе, душит он меня, твой корсет, – проговорила мамаша Лашом, когда они выехали в предместья Буржа.
Она побагровела – костяной каркас, сдавливая ее, заставлял держаться прямо.
– Ничего, мама, ты привыкнешь, вот увидишь.
До самого Жемона старуха не произнесла больше ни слова. Въехав в городок, Симон вдруг резко затормозил.
– О! Первый плакат! – воскликнул он. И выпрыгнул из машины. Щиты избирательной кампании на деревянных подпорках выстроились у серого здания школы. Щит Симона значился под номером три. «Хорошее число», – подумал он. Еще не просохший клей подчеркивал грубую фактуру бумаги соломенного цвета.
На плакате по заказу Симона был изображен большой его портрет. Тысячи поблескивавших от сырости чернильных точек создавали его изображение вполоборота: пучок волос посреди лба, квадратный подбородок, властный, почти вызывающий взгляд за стеклами очков – словом, одно из тех лиц, которые называют некрасивыми, но интересными.
Симон бросил взгляд на рекламу своих конкурентов, потом на свой щит, рассматривая его с удовлетворением, будто перед ним зеркало. Ему приятно было перечитать напечатанные жирным шрифтом свои звания – порядок их он помнил наизусть, ибо сам тщательно подобрал, расставил и взвесил список, который представлял его на суд избирателей.
СИМОН ЛАШОМ
41 год
Кавалер ордена Почетного легиона
Доцент университета
Доктор филологии
Бывший преподаватель парижских лицеев
Бывший заместитель заведующего
кабинетом министра просвещения
Журналист
Генеральный секретарь «Эко дю матен»
Вице-президент
Ассоциации профессиональных журналистов
Лейтенант запаса
Ветеран
Такой перечень не мог не произвести впечатления на избирателей, но прежде всего был бальзамом для него самого. «Это я, все это я, – думал он. – И добился я всего сам».
Ему казалось, что он и породил себя сам, и предки его – это университет, министерские приемные, редакции газет, директорские кабинеты. Только это и казалось ему истинным, тогда как старуха, сидевшая в машине, скованная слишком тесным корсетом, казалась ему ненастоящей, несуществующей, чем-то вроде лжесвидетельства о прошлом или в лучшем случае – ошибкой бросающей кости судьбы. «В самом деле, надо же мне было где-то родиться…»
– Нехорошо что-то мне, – тихо проговорила мамаша Лашом, когда Симон снова влез в машину. – Точно у меня в голове что-то лопнуло.
Только тут Симон соблаговолил посмотреть на старуху немного внимательнее. Глаз с опущенным веком сделался багровым, на лбу с той же стороны внезапно проступила плотная тонкая лиловатая сеть, напоминавшая прожилки листа, словно его сорвало осенним ветром и прилепило там.
«Ничего не поделаешь, – подумал Симон, – иначе быть не могло – она или я!»
Майор Жилон, положив шляпу на колени и разместив широкий зад поперек слишком низкого креслица, обитого белым атласом, следил страдальческими глазами за перемещениями по комнате Сильвены Дюаль.
Шарль Жилон, почетный командир эскадрона, бывший драгун и адъютант генерала де Ла Моннери, ушел из армии вскоре после выхода в отставку своего командира и укрылся в родовом поместье Монпрели, где лучшую часть времени проводил на охоте с командой Моглева; он принадлежал к тем холостякам, постаревшим до срока, чей эгоизм составляет основу натуры, но чьи бездеятельность, тщеславие, потребность «себя показать», желание сыграть роль покровителя или рассказывать об услугах, оказанных неблагодарным, всегда приводят к активному участию в сложных ситуациях, касающихся других. Это они бывают обычно свидетелями на дуэлях, и им всегда поручают сообщить о чьей-нибудь кончине или разрыве.
Сильвена Дюаль гневным жестом выпростала обнаженные руки из рукавов зеленого шелкового халата.
– Нет, в самом деле, сплошной восторг! – воскликнула она, хлопнув себя ладонями по лбу. – У нашего доблестного воина не хватает даже храбрости явиться самому!
Она презрительно хмыкнула и зашагала по ковру – от окна к зеркальному шкафу и от шкафа к окну. Рыжие волосы, блестящие, ухоженные, образуя круглый, как шапка, ореол вокруг ее головы, подрагивали, точно медная стружка в бликах солнечных лучей. Зеленые, глубоко посаженные глаза сверкали.
Сильвене было двадцать пять лет. Две крохотные, короткие, как лебединый пух, морщинки лучились в углах ее век – залягут они поглубже лишь через несколько лет, а пока просто наметили для себя место.
– Вы же знаете, что Габриэль, в сущности, человек очень добрый, – сказал Жилон, – и ему это так же больно, как вам…
Он чувствовал, что исчерпал все аргументы, ударился в самые банальные истины, и мучительно соображал, как подобраться к концу миссии.
«Эх! Надо же мне было впутаться во всю эту историю», – без конца твердил он себе. И так довольно неуклюжий дипломат, Жилон в данном случае был еще и весьма взволнован физической привлекательностью Сильвены – ее тугим, прекрасным, жарким телом под облегавшим пеньюаром, длинными гладкими ногами, отражавшимися в зеркале шкафа, когда пеньюар распахивался, ее женским, чуть пряным запахом… «Да, Габриэль, чувствуется, не скучал», – подумал он.
И все, что Жилон слышал о молодой актрисе: что поначалу она была проституткой в ночном клубе, что она разорила Люсьена Моблана, единоутробного брата де Ла Моннери, что она переспала со всем светом, что она – лесбиянка, что она – подозрительная особа, – словом, все, что он считал частично правдой, а частично ложью, наговорами и выдумками, сейчас и вовсе исчезло, рассыпалось в прах. «Ведь, в сущности, она просто несчастная, страдающая девчонка…»
Говорили же ему, что Сильвена – тощая, некрасивая, глупая и вульгарная. «Меня это всегда удивляло: ведь у Габриэля не такой уж плохой вкус».
Жилон не подозревал, что те, кто так говорил, знали Сильвену в ту не столь отдаленную пору, когда она была всего лишь растерянной, запуганной голодом девчонкой, торговавшей собою из необходимости, корыстолюбивой из желания пробиться, взять реванш, порочной от нетерпения и развращенной стариками, – иными словами, прежде чем материальное благополучие, которым она теперь обладала, растущие успехи в театре, соприкосновение с парижским обществом и связь, физически удовлетворявшая ее больше, чем предыдущие, – та связь, об окончании которой и пришел ей сообщить Жилон, – позволили Сильвене расцвести так, как она цвела сейчас.
– И отвратительнее всего даже не сам факт, а то, как он это сделал! – вскричала она.
– О, знаете, когда один человек причиняет другому боль, – отозвался Жилон, – это всегда не слишком красиво.
– Прислать ко мне человека, которого я даже не знаю… чтобы, наверно, еще больше меня унизить, – продолжала Сильвена, не слушая его.
– Ну что вы, я дружу с Габриэлем уже пятнадцать лет. Я был его инструктором на Сомюре…
– Да мне-то что до этого, – оборвала бывшего драгуна Сильвена, остановившись перед ним. – Впрочем, я, пожалуй, даже рада с вами познакомиться! Потому что вы во всем виноваты, вы, и ваша псовая охота, и ваша банда грязных снобов, но главное – вы! Вы его на это толкнули! Всю зиму я только и слышала: «Мне необходимо заняться спортом. В Париже я совсем не двигаюсь… Я возьму машину, котик… Съезжу дня на три к миляге Жилону…» И я позволила обвести себя вокруг пальца, как… как полная идиотка!
– Да нет, ну что вы, я тут совершенно ни при чем, – отвечал Жилон, в то время как перед глазами у него под тонким, цвета морских водорослей шелком колыхались груди Сильвены.
«Так, что же еще-то я должен сделать? – подумал он. – Ах да, коробочка и вещи…»
– Согласитесь, – вновь заговорила Сильвена, – согласитесь, что ему прощения нет! Он бросает меня самым подлым образом, самым низким, точно я самая что ни на есть дешевая шлюха!
«Так ты как раз и есть это самое, девочка моя, какой бы аппетитной ты ни была», – подумал Жилон. Мысль эта тотчас отразилась на его открытом лице, и Сильвена накинулась на него с новой силой.
– Так вот, самая что ни на есть дешевая шлюха никогда не сделала бы для него того, что сделала я. Как подумаешь, что целых два года он жил здесь. И оплачивала все я – я оплачивала его портного, я давала ему деньги на скачки, которые он бездарно проигрывал. Господин капитан всегда должен был на следующей неделе что-то получить!.. Да как подумаешь… И знаете, во что мне ваш Габриэль обошелся…
– Да… да… знаю, как раз по этому поводу я и… – воспользовавшись паузой, вымолвил Жилон.
Он вынул из кармана плоскую красную кожаную коробку. Большим знатоком по части обхождения с дамами он никогда себя не считал, и Сильвена казалась ему таинственной, опасной, точно неведомый зверь. Он боялся, как бы она не бросила коробку ему в физиономию.
– …Габриэль поручил мне передать вам вот это…
Сильвена молча взяла коробку, открыла и даже бровью не повела, увидев браслет из белого золота с изумрудами.
Помимо браслета в ней лежал сложенный чек. Красный атлас, зеленые камни и голубой чек не слишком удачно сочетались по цвету. Сильвена развернула чек и пожала плечами. Он не покрывал и четверти того, что она потратила на Габриэля.
На мгновение ей захотелось сделать то, чего так боялся Жилон. Однако крепкая фигура майора и добродушное безразличие, с каким он относился к отсутствию двух зубов, – которое было заметно, когда он говорил, – не могло не подействовать на Сильвену.
– Я предпочитаю не заниматься подсчетами, – сухо произнесла она, бросая коробку, чек и браслет на застеленную покрывалом кровать.
Из чего Жилон, облегченно вздохнув, сделал вывод, что Габриэль проявил достаточную щедрость.
– Габриэль сам его выбирал, – поспешил добавить он.
– Ах, значит, он в Париже! – воскликнула Сильвена.
Жилон, купивший браслет не далее как утром, тотчас почувствовал, насколько глупо и бессмысленно звучала его ложь.
– Нет… Нет… – ответил он. – Габриэль… он заказал его, когда приезжал в последний раз.
– Выходит, когда он приезжал в последний раз, – проговорила Сильвена, угрожающе чеканя слова, – это было уже решено? И он мне ничего не сказал и явился сюда спать, как обычно, как к себе домой, и… Ну и скотина!
Жилон дергал себя за короткие усы, сгорая от стыда не из-за проклятий, посылаемых Габриэлю, а из-за собственной глупости.
– А не можете ли вы мне сказать, – спросила Сильвена, внезапно успокоившись, – откуда он взял эти… деньги? – И она указала на покрывало.
– Наверное… наверное, он их занял…
– Знаете, что он такое, ваш Габриэль? – произнесла Сильвена, глядя ему в глаза. – Так вот, он самый настоящий сутенер! Он нашел женщину богаче меня, с титулом, с замком – словом, со всем, что ему нужно. Он женится на денежном мешке, да притом на толстом. Он любит комфорт, и он его получит. Он даже получит в придачу детей. Он самый настоящий сутенер – вот и все. А что до его Жаклин Шудлер…
– О нет, я запрещаю вам говорить о ней дурно! – воскликнул Жилон. – Она замечательная женщина!
– Замечательная женщина. Ну и насмешили! Знаю я ваших Шудлеров, притом гораздо лучше, чем вы думаете. Я знаю все – похождения папаши, самоубийство сына… семейка что надо. А теперь безутешная вдова, и некрасивая, и не такая уж молоденькая, покупает себе красавца Де Вооса, чтобы не так было скучно по ночам. И дает ему денег, чтобы избавиться от меня и сохранить респектабельность… Я не спрашиваю вас, – продолжала она, – с каких пор они вместе спят – мне на это в высшей степени наплевать. Я просто думаю, что она должна исповедоваться всякий раз, как позанимается любовью… Идите, господин майор, идите, вы исполнили свой долг. А вот они, – добавила она, угрожающе подняв палец, – они меня еще вспомнят.
Жилон поднялся, но не похоже было, чтобы он собирался уходить.
– Раз уж я здесь, – нерешительно сказал он, – вам не кажется, что мне следовало бы… забрать его вещи? Это избавит…
Говоря это, он подошел к стеклянному канделябру, давно уже привлекавшему его внимание.
– Как? Да вы что? – воскликнула Сильвена, принужденно рассмеявшись. – Прямо сейчас? Чтобы ничего больше от него тут и не осталось?! Эмильена! – позвала она.
Вошла миниатюрная горничная, с видом, соответствующим обстоятельствам, то есть с видом полного неведения. Квартирка на Неаполитанской улице была совсем крохотная, и трудно было предположить, чтобы Эмильена не подслушивала.
– Уложите вещи господина Де Вооса в его чемоданы, – приказала ей Сильвена. – Господин Де Воос вынужден на некоторое время уехать…
«Зачем я, дура, ей объясняю? Кого я хочу обмануть?» – подумала она.
– Все вещи господина Де Вооса?
– Да-да, все! Я же вам сказала! – потеряв терпение, закричала Сильвена. И одновременно подумала: «Какой же я была тупицей, но какой тупицей, какой!»
Она пронеслась по квартире, лихорадочно открывая ящики, собирая: там трубку, тут блокноты, пакет писем, пуговицы для манжет, несколько книжек, – словом, все то, что оседает по комодам и шкафам за время семейной жизни. «Какая я тупица! Но какая тупица!» И она кучей швырнула свою скудную добычу в раскрытую дорожную сумку.
– Ах да, еще вот это, пусть подарит ее вдове, – промолвила Сильвена, выдирая из красной кожаной рамки, стоявшей на комоде, фотографию Габриэля в кепи, чуть надвинутом на лоб.
В гардеробной горничная тщательно складывала одежду.
– Да ну же! Скорее, скорей! – торопила ее Сильвена.
Фрак Габриэля висел среди ее платьев.
– Оставьте! – прошептала она, заталкивая его подальше вглубь. «Не пойдет он красоваться во фраке, который я ему подарила, – подумала Сильвена. – Она купит ему другой… Господи, до чего же он был в нем хорош, и какой счастливой я себя… Нет, нет! Плакать я не стану, плакать не стану… И потом, не позволю я насмехаться надо мной и топтать меня ногами!»
– И передайте ему, – вскричала она, внезапно подойдя к Жилону, – что он еще не женат! А мне на все плевать, ясно вам, мне терять нечего и нечего бояться. И я устрою ему знатный скандальчик…
Жилону пришлось трижды возвращаться, чтобы перенести все вещи в машину, – он отдувался, вздыхал.
«Да! Долго я буду помнить этот визит, – думал он. – Но в конце-то концов, все могло пройти и хуже. Короче говоря, Габриэлю я оказал бесценную услугу. Расскажи она все это кому-нибудь другому…»
Собираясь в последний раз выйти за порог, Жилон обернулся – сзади раздался звон разбитого стекла. Канделябр лежал на полу, разлетевшись вдребезги.
– Случайно получилось, – проговорила Сильвена, которая, стремясь успокоиться, решила выместить на канделябре свою злость.
Жилон, мгновение поколебавшись, еще раз оглядел молодую женщину, начиная от пышных рыжих волос и кончая бархатными домашними туфлями, и решил, хотя и с некоторым опозданием, поработать немного и на себя.
– Послушайте, детка, вам, быть может, покажется сейчас немножко одиноко… я пробуду несколько дней в Париже…
– О нет, месье, прошу вас! – отрезала Сильвена, захлопывая за ним дверь.
Всего час назад Сильвена думала: «Когда послезавтра приедет Габриэль…» И вдруг звонок в дверь, этот незнакомец, севший бочком на кресло… и вот все кончено. Она не могла бы точно вспомнить, о чем она думала в течение этого часа. Она не могла понять, страдает она от досады, от унижения или действительно от любви.
Ей было ясно одно: в этой квартире она больше жить не сможет.
«Но куда ехать? Мне и ехать никуда не хочется».
Взгляд ее, пока она ходила по комнате, упал на чек, и машинально она принялась подсчитывать, сколько у нее осталось от тех двух миллионов, что дал ей четыре года назад Люлю Моблан на двух близнецов, к которым не имели отношения ни он, ни даже она, то есть от суммы, сделавшей ее богатой, как ей казалось, до конца дней, – в банке теперь лежало тысяч двести. Остальное улетучилось – пошло на редкие цветы, духи, экзотические сигареты. Она покупала платья из одной только радости покупать, по двадцать платьев, и, надев раза три, отдавала почти даром. У нее были меха, в роскошных переплетах книги, не представлявшие никакой ценности, украшения – она не покупала их, ибо ей казалось, что украшения должны дарить мужчины. Возможность заходить в магазины, заказывать все, на чем мимолетно задерживался ее взгляд, загромождать свою жизнь бесполезными вещами, которые ей тотчас надоедали, останавливаться, путешествуя, в самых дорогих отелях, умудряясь при этом бесконечными требованиями дополнительных услуг увеличивать счет вдвое, создавала у нее впечатление, что она наконец играет в жизни ту роль, о которой всегда мечтала.
Но главным расточителем был Габриэль, который за неполных два года («Ведь, правда, мы познакомились 11 апреля… Мог бы все-таки дождаться второй годовщины…»), постоянно пополняя свой гардероб, проигрывая на скачках, сидя в ночных барах, высосал из нее наверняка около миллиона. Автоматически она умножала все надвое. Габриэль был настоящей роскошью, которую она себе позволила как женщина.
«И при всем том оставаться в этой крохотной жалкой квартирке. О нет! Завтра же перееду в отель! И продам машину – не хочу я больше этой машины. Как подумаю, что он ездил на ней с…»
Но все это имело второстепенное значение – Сильвена ведь принадлежала к тем людям, которые начинают беспокоиться по-настоящему, лишь когда разменяют последнюю тысячефранковую бумажку, и именно по этой причине всю жизнь ходят на краю бездны.
Сейчас же важно было понять, любила ли она на самом деле Габриэля и любит ли еще она его.
Из ящичка ночного столика Сильвена достала другую фотографию Габриэля, которую не отдала Жилону, потому что предпочитала ее фотографии, стоявшей в рамке. Естественно, в квартире осталось еще достаточно вещей ее любовника. Например, мундштук из слоновой кости, который она взяла в губы, желая как бы соприкоснуться через него с хозяином. Вдохнув запах холодного табака, она бросилась на кровать и попыталась собраться с мыслями.
«Надо было мне пойти куда-нибудь сегодня вечером с Жилоном и переспать с ним потом. И чтобы Габриэль узнал об этом. Красивая получилась бы месть. Хотя, в сущности, ему было совершенно наплевать. Какое сейчас это могло бы иметь для него значение? К тому же уж больно старикашка уродлив, да еще и двух зубов не хватает!»
Сильвена предпочла вспомнить те несколько раз, когда она изменила Габриэлю либо с бывшими любовниками, либо со случайными партнерами; однако это ничуть не облегчило ее боли и не принесло успокоительного воспоминания о настоящей плотской радости. Габриэль был первым мужчиной, который сумел удовлетворить, и притом надолго, неуемную чувственную жадность, толкавшую ее когда-то на отчаянные и беспорядочные поиски. Она любила его мускулы, его кожу, его вес…
«Сволочь… Ой, какая я дура…» На мгновение у нее пронеслась мысль покончить с собой в церкви во время его бракосочетания. У нее смертельно разболелась голова и кровь немилосердно стучала в затылке.
И вдруг ее охватило безудержное желание – оно перекрыло боль, вернее, переместило ее: Сильвене казалось, будто в животе у нее возник огненный шар, что-то вроде солнца, распадающегося снопами бенгальского огня. Стиснув челюсти, она скрестила ноги, сжала их, спаяла ляжки так сильно, что казалось, лопнут мышцы.
Внезапно тело ее конвульсивно содрогнулось – будто молния ударила в громоотвод и прошла по нему в землю.
Сильвена резко вскочила, испуганная, широко раскрыв глаза, словно потрясенная внезапным открытием.
Затем она снова упала на кровать, сотрясаясь в рыданиях, разметав свою роскошную рыжую шевелюру между коробкой, портретом и чеком.
Каждое утро, в восемь часов, к внушительному порталу особняка Шудлеров, расположенного на авеню Мессины, подкатывал большой черный четырехдверный «роллс-ройс» и отбывал по направлению к бульвару Османа. Прохожие, привлеченные видом одной из самых дорогих в мире машин, различали сидевших сзади двоих детей, которые в своей стеклянной клетке, окаймленной светлой обивкой, с подлокотниками и баром, казались парой принцев-карликов.
Машина останавливалась на улице Понтье, перед монастырем Птиц Небесных; шофер, сняв фуражку, распахивал дверцу и помогал выйти девочке, которой еще не было тогда и четырнадцати лет.
– Значит, в половине двенадцатого, Альбер, – говорила она нарочито громко слуге, только чтобы придать себе веса в глазах подружек, которые в то время оказывались рядом.
– Пока, Жан-Ноэль, – бросала она мальчику, остававшемуся в машине.
– Пока, Мари-Анж, – отвечал ей двенадцатилетний брат.
Машина трогалась в направлении Пасси и подвозила Жан-Ноэля ко входу в небольшой лицей Жансон-де-Сайи.
На сей раз шофер не выходил. Жан-Ноэль как можно более небрежно захлопывал тяжелую дверцу и, сразу окунаясь в шумную школьную суету, томно обращался к какому-нибудь мальчику из своего класса:
– Ну что, старик, как дела? Нынче у нас история с географией. Да еще час придется киснуть у отца Марена.
Жан-Ноэль носил короткие, английского образца брюки, которые приспускал до щиколоток, и ботинки на ребристой каучуковой подошве, большего размера. Таким образом, среди своих товарищей он считался авторитетом в области вкуса и элегантности.
Днем, когда Жан-Ноэль успевал уже изрядно вымазать руки чернилами, углем и пылью, когда он получил уже лучшую оценку за пересказ и когда на переменке, во дворе под каштанами, курчавый мальчик с толстым задом уже выложил ему несколько похабных историй, которые оба понимали довольно смутно, но которые приводили их в состояние непонятного возбуждения, Жан-Ноэль снова садился в ожидавший его у дверей лицея массивный «роллс». Ему приятно было убеждаться в том, что среди многочисленных машин, ожидавших учеников, машина его дедушки самая красивая, красивее даже, чем лимузин аргентинского посла.
Молодые, элегантно одетые матери целовали в лоб своих сыновей, которых возмущала эта ласка на глазах у всех. Старенькие «няни» пытались утащить злобно сопротивлявшихся мальчишек, а если им это не удавалось, они отходили в сторону, не мешая своим питомцам изображать независимость. Но самыми несчастными были те, кого забирали бабушки.
Жан-Ноэль разболтанной, но в то же время энергичной походкой прорезал небольшую толпу женщин и детей, сгрудившихся на широком тротуаре, занимавшем угол между авеню Анри Мартена и улицей Декана; затем, махнув на прощание курчавому мальчику с толстым задом, спускавшемуся по лестнице в метро, он падал на подушки «роллса», воображая себя уже крупным банкиром, послом, генералом или знаменитым академиком, который едет пообедать после того, как все утро он занимался делами исключительной важности, – безусловно, так и произойдет, ибо в его семье хватает людей, достигших весьма высокого положения.
Машина вновь остановилась на улице Понтье, где Мари-Анж разыгрывала нетерпение, а на самом деле с замиранием сердца слушала рассказы белокурой девочки, которая хвасталась, будто целовалась с мужчиной.
– Надо и тебе попробовать, знаешь, это приятно, – говорила она Мари-Анж. – Да и потом, ты ничем не рискуешь. Опасно только, если мальчик на тебя ляжет. Я как-нибудь, если хочешь, поцелую тебя, чтобы ты поняла, как это здорово, хотя с девочкой это, конечно, не так интересно.
Что же все-таки делают мужчины, когда они ложатся на женщин, какие повторяют движения, какие ощущения можно испытать в этом запретном, таинственном и желанном мире?
Шофер захлопнул дверцу, шины зашелестели по асфальту.
В этот час дети из государственных школ тоже возвращались по домам, играя на мостовой, шаркая тяжелыми галошами, тузя друг друга, разметывая крылья пелерин. Однако Жан-Ноэль и Мари-Анж вышли из того возраста, когда они завидовали им, – они уже не мечтали о том, чтобы гонять по берегу ручья продавленный мяч или прыгать на одной ноге по нарисованным мелом квадратикам классов, и уже не договаривались свистящим шепотом: «Потом сразу пойдем в парк, поиграем с городскими детишками».
Тот период, закончившийся лишь несколько месяцев назад, казался им уже бесконечно далеким.
Теперь Мари-Анж и Жан-Ноэль получали удовольствие от других вещей. Стараясь изо всех сил сохранять равнодушное выражение, они подмечали изумленные или завистливые взгляды прохожих, хватали на лету слова мальчишек, которые, присвистнув сквозь зубы, восклицали:
– Черт подери! Ну и тачка!
На лицах взрослых рабочих, с трудом крутивших педали велосипеда, усталых лоточников, нагруженных сумками домохозяек, бледных служащих они могли разглядеть такое же выражение.
И у них появилась ложная уверенность в том, что существуют два не похожих друг на друга мира, из которых один, привилегированный, ограничен стеклами машины, а второй, низший, начинается за этими же стеклами уже с фуражки шофера. Два мира, которые видят друг друга, но связаны между собой только тем, что один зависит от другого и подчиняется ему. Замкнутые в защищенном от внешнего воздействия мире, Жан-Ноэль и Мари-Анж с наслаждением тешили свою гордыню. Тем не менее зрелище слишком обнаженной нищеты, или вид слепца, который, стуча палкой, переходит улицу, или истощенной старухи в лохмотьях, или появлявшееся на некоторых лицах злобное, враждебное выражение вызывали в них мимолетное чувство вины и одновременно уязвимости. Вернее, не чувство, а едва заметное неприятное ощущение. Быть может, инстинкт смутно предупреждал их, что достаточно с предельной точностью бросить камень, чтобы расколоть холодную прозрачную стену, разделяющую два мира, и что именно так и вспыхивают революции.
Но они могли думать, что испытывают эту неловкость оттого, что еще маленькие, а повзрослев, никогда уже не будут стыдиться своего богатства.
К тому же они знали, что хороши собой, и это приумножало их право на всеобщее восхищение.
Волосы у Мари-Анж стали золотисто-каштановыми; большие зеленые глаза чуть удлинились к вискам, маленькие ноздри были тонко вырезаны, а тело обещало в скором будущем принять самые совершенные формы.
Жан-Ноэль, как и в детстве, сохранил светлые волосы; глаза его, скорее круглые, были глубокого синего цвета. У него уже сформировался длинный подбородок де Ла Моннери, и он удивительным образом походил на детский портрет своего деда, поэта.
Порода сказывалась не только в его точеном лице, но и в очертаниях узких рук и ног, в тонких запястьях и лодыжках, что редко бывает заметно в его возрасте.
Если Жан-Ноэль и завидовал еще свободе, какой пользовались уличные мальчишки, так только потому, что они могли вечерами шататься около ворот или бродить по паркам и подглядывать, спрятавшись позади скамейки, за какой-нибудь парочкой.
Он не решался говорить об этом с сестрой. Да и вряд ли Мари-Анж это знала. Он не решался даже пересказывать ей истории, поведанные курчавым мальчиком с толстым задом. Ему было стыдно за то, что он ищет с ним дружбы, даже обхаживает его, стыдно от его непристойных рассказов. И все же Жан-Ноэль не мог удержаться, глядя на тело сестры, чьи груди начали обрисовываться под строгим темно-синим платьем, – не мог удержаться и представлял себе – вернее, пытался себе представить – жесты и позы, которые открыл ему курчавый мальчик. И за это тоже ему было стыдно.
Что же до Мари-Анж, то и ей хотелось бы возвращаться домой пешком, ибо тогда она познала бы, какое испытываешь чувство, когда к тебе пристают на улице, а белокурая девочка, как она уверяла, сталкивалась с этим довольно часто. Мари-Анж размышляла, осмелится ли она когда-нибудь поцеловать мальчика в губы и не следует ли проделать это как-нибудь со своей подружкой.
Таким образом, обоих детей помимо повседневной школьной рутины, переводов с латыни и зубрежки основ алгебры, что в тех высоконравственных заведениях, которые они посещали, им старались преподносить как наиболее важное в жизни, как магические формулы, открывающие в этом мире все двери, стали неотступно занимать, тревожа их души, вопросы секса и собственного достоинства.
Достаточно им было, засыпая вечером, вдруг почувствовать страх, что утром они не проснутся, достаточно было увидеть на серебряном подносе, где лежала почта, уведомление о чьей-нибудь кончине или время от времени утром задаться вопросом, зачем ты появился на этот свет, под необъятным, набрякшим тучами небом, и почему их отца уже нет с ними, тогда как столько стариков еще живы, – и появлялась еще одна тревога – страх смерти.
А потому у них были все основания раздражаться, когда взрослые со снисходительной улыбкой беседовали с ними.
– Так, значит, дети изучают гуманитарные науки? Но это же чудесно, – говорил солидный господин, чей подбородок шевелился где-то над их головами.
Конечно, они изучали гуманитарные науки! Но никто не помог им разобраться, когда пришла пора, в трех главных проблемах, стоящих перед человеком, – проблеме собственного достоинства, секса и смерти. Как и всем людям, им самим предстояло разгадать тайны крови и мироздания; самим разобраться в деталях, из которых складывается жизнь каждого в зависимости от условий его рождения и встреч, поджидающих его на избранном вслепую пути; самим, пройдя через множество мук, научиться обсуждать – в общих чертах, или с научной, или сугубо личной точки зрения – свои тревоги и определить, повинно ли в них общество, любовь и Бог; самим…
И они поймут тогда, что взрослых вообще не существует, потому что в своих собственных глазах мы никогда в полной мере не становимся взрослыми.
Но в то время когда большой черный автомобиль сворачивал на авеню Мессины и подкатывал к порталу особняка Шудлеров, другая, более настоятельная, более конкретная тревога охватывала обоих детей и временно перекрывала их заботы и радости.
– Не знаешь, дедушка сегодня обедает дома? – спрашивал Жан-Ноэль.
– Думаю, да, – отвечала Мари-Анж.
И дети, чтобы придать себе мужества, глубоко вбирали в легкие воздух.
Барон Ноэль Шудлер, командор ордена Почетного легиона, управляющий Французским банком, владелец банка Шудлеров и «Эко дю матен», председатель совета директоров сахарных заводов в Соншели, копей в Зоа и множества других предприятий не меньшей значимости, потеряв, одного за другим, своего сына, барона Франсуа, ответственность за самоубийство которого Париж возлагал на него, Ноэля; затем отца, барона Зигфрида, умершего в возрасте почти ста лет от апоплексического удара, и, наконец, жену, баронессу Адель, медленно угасшую от рака яичника, – все неотвратимее погружался в одиночество, подстерегающее в старости всех тиранов.
Даже его невестка Жаклин, с осени почти безвыездно жившая в Моглеве, сбежала от него.
Таким образом, не зная, кого больше мучить, барон Ноэль решил перенести в этом году время обеда на час раньше, соответственно обеденному перерыву внуков.
Столовая особняка Шудлеров была величественна, но мрачна. Высокие посудные шкафы эбенового дерева были заставлены фарфором Ост-Индской компании и английским столовым серебром XVIII века. Четыре темных, поблескивавших лаком полотна в тяжелых золоченых рамах, которые скорее подошли бы для интерьера какого-нибудь замка, а не парижского дома, изобиловали фруктами, зеленью, мертвыми фазанами и рыбами цвета морской волны. Темно-красные бархатные портьеры, подхваченные посередине, красиво обрамляли листву сада, раскинувшегося за окном, но задерживали свет.
В последний понедельник апреля, на другой день после выборов в Законодательное собрание, Жан-Ноэль и Мари-Анж, уже давно терзаясь голодом, как обычно, ожидали деда, стоя у высоких дубовых стульев со спинками, обитыми кордовской кожей.
Мисс Мэйбл, их бывшая няня, ставшая потом гувернанткой, – Маб, как они звали ее, – также находилась в столовой.
На протяжении всего обеда Маб не произносила ни слова и лишь через равные промежутки времени делала языком какие-то странные движения, как бы отклеивая губы от крупных, выдающихся вперед зубов.
Наконец вошел барон, неся с мрачным и злым видом свою исполинскую фигуру и короткую бородку распутника, начавшую седеть; на нем был костюм из превосходной черной материи, который освежала лишь сидевшая на лацкане розетка.
– Ну до чего же неудобно обедать в такой час – весь день ломается, – проворчал он, – правда, если я не буду вами заниматься, кто же, интересно, будет… Придется позвонить директорам ваших школ и велеть, чтобы они изменили расписание уроков. Ерунда какая-то… Ну хорошо, садитесь!
Расположение приборов на столе, рассчитанном на двадцать персон, было весьма своеобразно. За высокими вазами и ажурными серебряными канделябрами было почти не видно детей, сидевших на большом расстоянии от деда и отделенных от него рядом пустых стульев. Ибо барон Ноэль требовал, чтобы места умерших оставались незанятыми. Создавалось впечатление, будто обед проходит в фамильном склепе.
Исполин получал болезненное удовольствие, вновь и вновь подсчитывая опустошения, произведенные судьбой, и в то же время как бы показывая детям, что они могут унаследовать эти места в награду за будущие заслуги, оценивать которые будет он, и только он.
– Жан-Ноэль, когда тебе исполнится пятнадцать лет, ты получишь право сесть на место твоего отца, а ты, Мари-Анж, когда тебе исполнится восемнадцать, сможешь занять стул твоей бабушки…
Дети едва решались поднять на него глаза.
Сквозь толстые веки барона виднелась лишь темная ниточка взгляда – словно в прорези, какими античные скульпторы изображали на бронзовых бюстах глаза. За отверстиями начиналась тревожная тьма. Временами там занимались красные всполохи – свидетельство гнева, всегда возможного, но непредсказуемого, – точно в полой бронзе внезапно вспыхивало пламя.
Но еще больше сковывала Мари-Анж и Жана-Ноэля правая рука деда, пухлая, в коричневых пятнах; она словно безостановочно катала хлебный шарик. Жест, казалось бы, вполне обычный, но никакого хлебного шарика не было – большой палец работал сам по себе, без предмета, потирая указательный и средний пальцы.
Дети не могли отвести от руки глаз – ее беспрестанное движение и притягивало их, и отталкивало, хотя они боялись, как бы дедушка этого не заметил.
– Да, – продолжал барон Ноэль, – если я не займусь вами… А теперь это будет и совсем необходимо. Поскольку, бедные вы мои малыши, скоро вы станете как бы полными сиротами… Ваша мать ведь сообщила вам, что выходит замуж… Нет? Ну, так я вам сообщаю. Вы уже достаточно взрослые, и с вами можно говорить откровенно.
В первое мгновение дети пытались лишь собрать воедино некоторые свои предчувствия, перешептывания слуг, намеки Маб, не очень ясные, нежные слова матери во время ее последнего приезда: «В следующий раз я, возможно, сообщу вам важную новость…» Именно это она, разумеется, и имела в виду. И она выходит замуж наверняка за того очень высокого господина, которого они однажды видели и который вел себя с ними как-то двусмысленно, проявив несколько преувеличенный интерес и чрезмерную, но холодноватую любезность.
Таким образом, лишь только дед сказал им об этом, у них возникло впечатление, что они предупреждены уже давно, всё знали, и в сердце сразу же закралась тоска.
Ноэль Шудлер знал, что поступил сейчас очень дурно. Жаклин, которая должна была приехать послезавтра, настоятельно просила в последнем письме: «Главное, отец, прошу Вас, не говорите ничего детям; я хочу рассказать им все сама…» Но он не мог отказать себе в этом. Да и потом, почему он должен церемониться с кем бы то ни было, пусть даже с детьми? Разве судьба его щадила? Разве Фортуна не била его упорно и беспощадно, кося вокруг него головы и оставив его теперь одного в громадном мрачном доме?
А сколько вообще ему приходится терпеть, размышлял он, и это вполне оправдывает его расправы с невинными! Да одно то, что во рту у него не осталось ни единого зуба. И то, что в бороде сплошь седые волосы и на груди тоже. И то, что по ночам он ворочается в тоске. Ну разве знают дети весь ужас бессонных ночей, когда в голове постоянно стучит вопрос: а не умрешь ли ты в следующую минуту? И то, что его одолевает боль в области сердца и в левом плече, которую профессор Лартуа упорно приписывает лишь нервам, а не грудной жабе. Но в конце-то концов, что этот Лартуа понимает? А кроме того, в последние месяцы его мучают приступы внезапной слабости, поражающей все его огромное тело. Никогда прежде не нападало на него необъяснимое сомнение в реальности окружающего мира, когда все кажется непонятным и странным.
Не говоря уж о тике правой руки – остановить его он никак не мог, хотя и отдавал себе в этом отчет.
И тем не менее в свои семьдесят два года он продолжал работать, что приводило его в восхищение. Много ли можно найти людей, которые в его годы сохранили всю свою активность и власть! И эти дети, которые сидят, уткнув нос в тарелку, там, на другом конце стола, за пустыми стульями усопших, всю жизнь будут пользоваться плодами его труда. Да, его трудом, ибо он взял на себя управление состоянием Жаклин, живет и она. И вот теперь жалкий, никчемный офицеришко без гроша в кармане будет тоже жить за его счет…
В узкой щелке глаз барона полыхнул багрянец. В полой бронзе занялось пламя.
– Если ваша мать хотела во что бы то ни стало выйти замуж за ничтожество, лучше бы уж нашла себе герцога! – воскликнул он. – Да и вообще, моя невестка могла взять себе кого угодно, но Де Воос… Де Воос… с чем это едят? Какой вес придает его фламандской фамилии эта никчемная частица! Госпожа Де Воос! – произнес он, пожимая гигантскими плечами и забывая о том, что дворянство банкирской семьи Шудлер существует лишь со времени царствования Фердинанда II.
Аппетит у детей был совершенно испорчен. Напрасно дворецкий подносил им на тяжелых блюдах груды кушаний, над которыми, как от ладана, поднимался душистый дымок. Это была одна из новых причуд исполина: он требовал от поваров невиданного изобилия в меню. Сам он накладывал себе чудовищные порции и накидывался на них с жадностью ненасытного обжоры. Но дети заметили, что он отсылает тарелки, на три четверти полные.
– Ну хорошо, давайте лучше есть, – сказал он.
– Спасибо, дедушка, уверяю вас, я не голодна, – еле слышно отозвалась Мари-Анж.
В горле у нее стоял ком, и она не была уверена в том, что сумеет сдержать слезы, пока не кончится обед.
– Конечно, я понимаю: вы думаете о вашем отце, бедные мои малыши, – снова заговорил барон, продолжая лить им на раны яд. – Да! Жаль, что вы не успели его узнать получше! Достойнейший был человек! И как он вас любил!
Из глаз Мари-Анж неожиданно полились слезы и жемчужинками покатились по щекам. Однако ком, застрявший в горле, не стал от этого меньше.
Мисс Мэйбл, не решаясь выразить осуждение, языком отлепила губы от зубов.
Жан-Ноэль боялся взглянуть на сестру: он чувствовал, что и сам вот-вот расплачется. Однако к его горю примешивалась надежда на еще неясную, но упоительную месть. Разве не найдется способа убить этого мерзкого господина Де Вооса, который собирается отнять у него мать? Или, может, запугать его? Каждый день посылать ему письма с угрозами! Грела Жан-Ноэля также мысль о побеге, и он представлял себе, как мать с трагическим выражением лица повернется к Де Воосу со словами: «Мой сын уехал. Из-за вас!»
– Да, хорошего она ему нашла преемника, – снова заговорил барон Шудлер. – Уж если брать кого-то без роду без племени, так у нее был Симон Лашом, я двадцать раз говорил ей об этом. Вот вам пожалуйста, человек, который начал с нуля. А доберется до больших высот, и все потому, что его сделал я. Видали: со вчерашнего дня он – депутат. Прошел на выборах с первого тура, без перебаллотировки… Хоть тут я получаю удовлетворение.
Внутренняя ярость Жан-Ноэля перекинулась на Симона Лашома. Жан-Ноэль питал отвращение к этому невзрачному, неказистому человеку со стесанным подбородком и волосатыми пальцами. Отвращение к Лашому было тем сильнее, что во время трех обедов из четырех исполин ставил его внуку в пример; одного этого уже было достаточно, чтобы Жан-Ноэль возненавидел кого угодно, будь то Гинмер, Тюренн[5] или сам Наполеон.
Жан-Ноэль задался вопросом, а любит ли он вообще кого-нибудь. Он не любил своего деда – это ясно, – хотя сегодня подспудно чувствовал себя его союзником против господина Де Вооса. Не любил он и бабушку Ла Моннери – она была костлявая, властная и глухая. Не слишком он любил и Маб – насквозь фальшивая и никогда их не защищает. Не любил своего курчавого товарища с толстым задом и не любил никого из преподавателей. А маму?.. Да, но теперь он не мог уже ее любить… теперь, когда между нею и этим человеком будет происходить то, что ему так хотелось бы подглядеть у парочек – в скверах или в спальнях…
Жан-Ноэль утвердился в мысли, что любит он только свою сестру и что они одни во всем мире. Ему захотелось встать, крепко обнять ее и успокоить, то есть поплакать вместе с ней.
А исполин тем временем, не прекращая катать несуществующий хлебный шарик, продолжал свой монолог:
– Лашом – верный человек, на которого при любых обстоятельствах можно рассчитывать, ибо он всем мне обязан. А знаете ли вы, дети мои, что его место стоит мне триста тысяч франков? Но зато теперь в этой партии у меня есть свой человек. Хотя какая партия, кроме разве что революционеров, могла бы в чем-либо мне отказать?.. Впрочем, даже и революционеры! – сказал он, усмехнувшись, после небольшой паузы. – Я уверен, они стоят дешевле других, потому что не привыкли к деньгам. На их беду, мы в них не нуждаемся – это-то их и злит… Ничто не может устоять против силы – вы еще это поймете, – как ничто не может устоять против денег.
Он продолжал разглагольствовать, подталкиваемый настоятельной потребностью слушать самого себя, свое обращение – вот уж абсурд – к аудитории, на шестьдесят лет моложе его.
– Ничто никогда не могло устоять против моей воли, потому что за мной всегда была сила и деньги… Ничто и никто, даже…
Он хотел сказать «мой сын», и черная нить его взгляда скользнула по пустому креслу, обещанному Жан-Ноэлю. Однако ему удалось сдержаться, и, выразив иносказательно обуревавшие его чувства, он заключил:
– Я ведь вроде Петра Великого.
В эту минуту доложили о Симоне Лашоме, который принес своему патрону и покровителю первые отклики на одержанную победу.
– Да-да, вот на кого вы всегда можете рассчитывать, – машинально повторил барон Ноэль.
Затем его лицо слегка расслабилось, свет в узких щелочках глаз потускнел, словно бронза наполнилась пеплом.
– Бедный ваш отец тоже хотел стать депутатом, – сказал он.
Мари-Анж без всякой связи с последними словами разрыдалась. Это наконец прорвался тот комок в горле, доставлявший ей невыносимое страдание. Девочка положила салфетку и, извинившись, вышла.
– Но ты-то, я надеюсь, не заплачешь? – спросил исполин, глядя, как у Жан-Ноэля задрожали густые ресницы и опустились уголки губ. – Мужчины не плачут. А тем более Шудлеры. Никогда!
Барон Ноэль проглотил обжигающий кофе, поднялся, подошел к мальчику и, положив тяжелую руку на его хрупкое плечо, сказал:
– Когда-нибудь ты вспомнишь. И когда-нибудь скажешь: «Был у меня дедушка, который не вовремя родился, – в другую эпоху он мог бы строить города, создавать промышленность, обогащать целые провинции. Словом, мог бы творить историю». Давай, малыш, желаю тебе до меня дотянуться, но, боюсь, не выйдет.
И, заполнив собою весь проем двери, он прошел навстречу гостю.
Через несколько минут, сидя в «роллс-ройсе», пока Мари-Анж промокала влажным платком лицо, чтобы не приезжать в школу с заплаканными глазами, Жан-Ноэль сказал:
– Тебе не кажется, что дедушка немного тронулся?
Но он прогнал эту мысль, едва произнеся ее вслух. Нет! Человек, имеющий такую превосходную машину, окруженный такими вышколенными слугами, способный заплатить триста тысяч франков за место в парламенте, как другие платят за место в театре (о чем Жан-Ноэль не преминет похвастать перед своими товарищами: как-никак тоже утешение), такой человек уж точно не может тронуться.
Было решено, что свадьба состоится в Моглеве, в домашней часовне, в присутствии лишь нескольких близких и что в газетах о ней объявят только после бракосочетания.
«В двадцать лет в этом есть своя прелесть – предстать женихом и невестой, но в нашем возрасте собирать триста человек, чтобы ставить их в известность о том, что вечером… Нет, это просто смешно».
У Жаклин была уже когда-то пышная свадьба, и ей не хотелось вновь проходить через мэрию и церковь, где она сочеталась с Франсуа.
Габриэль, со своей стороны, мог опасаться в Париже какой-нибудь выходки Сильвены.
«В самом деле, я поступил с малышкой достаточно жестоко, – говорил он себе. – А что было делать? Ведь счастье одних всегда зиждется на несчастье других».
Габриэль был счастлив. Он по-прежнему жил у своего друга Жилона. Но большую часть времени проводил в Моглеве и каждый вечер, возвращаясь в Монпрели на новой машине, которую он только что приобрел на деньги, взятые в «долг» у Жаклин, глубоко вдыхал свежий деревенский воздух и испытывал такой прилив сил, какого не помнил. «До чего же красиво колышутся ветви! Ах! Почва, земля! Вот в чем истина!.. Никто не поверит, что я женился не на деньгах. Ну и что! Пусть думают что хотят: мы-то с Жаклин знаем, как оно на самом деле. Боже мой, я совсем забыл ей сказать…»
Находилась всегда тысяча вещей, которые Габриэль забывал сказать Жаклин; но для этого у него будет завтра, и послезавтра, и вся жизнь. Внезапно его существование наполнилось смыслом. «Подумать только, ведь я так часто задавался вопросом, что я делаю тут, на земле. Теперь я знаю, знаю, во имя чего я живу».
И до поздней ночи он мучил Жилона, который буквально засыпал на ходу. Габриэль говорил не умолкая и незаметно для себя проглотил одну за другой несколько рюмок марка[6].
Однако по мере того, как приближалась церемония, Жаклин становилась все сдержаннее и все больше нервничала.
– Хотите, мы все отменим? Не пойдем под венец, если вы считаете, что не следует этого делать, – едва сдерживая гнев, но не теряя достоинства, за день до свадьбы сказал ей Габриэль. – Можно еще подождать.
– Ах нет, не сердитесь на меня, Габриэль, – отозвалась Жаклин. – Но поймите, я как лошадь, которая получила травму, когда ее впервые загнали в фургон, и теперь она инстинктивно боится снова туда заходить – вот и все.
На самом деле это означало: «А может быть, на мне лежит печать. Может быть, я шагаю навстречу новому горю…»
– Я очень хорошо понимаю, – серьезно проговорил Габриэль. – И хотел бы, чтобы вы знали, что я уважаю, насколько это возможно, ваши… как бы это сказать… ваши воспоминания. И я никогда не стану настаивать на том, чтобы вы забыли даже вашу печаль.
– Простите, Габриэль, но даже если бы вы попросили меня об этом, я бы не могла, – сказала она, грустно пожав плечами.
На какое-то мгновение они умолкли.
– Я знаю, что вы часто думаете о Франсуа, – вновь заговорил Габриэль, – так оно и должно быть. И никогда этого не скрывайте. Это человек, который, судя по тому, что мне рассказывали вы и другие, вызывает у меня величайшее восхищение.
– Спасибо, – промолвила она, дотронувшись до его руки.
Она почувствовала, что готова расплакаться. Предрасположенность к слезам, появившаяся у нее в последнее время и объяснявшаяся, может быть, тоскою плоти, выводила Жаклин из себя.
Впервые в разговоре с Жаклин Габриэль назвал ее первого мужа по имени, вместо туманных перифраз, которыми обходился до сих пор. Притом говорил он вполне искренне.
Они медленно шли бок о бок по парку. Несколькими минутами позже, когда мысли Габриэля приняли другое направление, он неожиданно поймал себя на том, что в мозгу его крутится фраза: «Водворяется мертвец».
– Как вы зло вдруг на меня посмотрели, Габриэль! – воскликнула Жаклин.
– Нет-нет, отнюдь… просто я думаю… обо всем, что нас разделяет… о моей бедности… и задаюсь вопросом, имею ли я право, ведь вы…
Это была его обычная и почти бессознательная хитрость: лишь только он чувствовал свою зависимость от Жаклин, тотчас заводился разговор о бедности.
Жаклин подняла руку, будто желая закрыть ему рот.
– Прошу вас, Габриэль, мы сказали уже по этому поводу все, что нужно было сказать. Моего личного состояния вполне хватит на двоих, и я никому не должна давать отчет. Для меня в самом деле большое счастье иметь возможность обеспечить вам безбедное существование – вы же не можете иначе в полной мере проявить свои способности… И разве я уже не доказала вам этого? – тихо добавила она с улыбкой, намекая на чек Сильвене…
Этому высокому, крепко сложенному человеку с мужественным лицом суждено было внушать женщинам желание всячески его оберегать – вплоть до оплаты его долгов своим соперницам… Уязвимым местом Де Вооса было отсутствие денег, и, залечивая эту рану, женщины стремились взять над ним реванш, закрепить обладание им.
На сей раз Габриэль дотронулся до руки Жаклин и прошептал:
– Спасибо.
Они посмотрели друг на друга.
«Как я могу существовать без женщины, которая так много мне дает и с такой деликатностью…» – думал Габриэль. «Как могла я обходиться без него, насколько же он искренен, он уже заполнил пустоту в моей душе и стал моим самым близким другом», – думала Жаклин.
– А ведь когда я в первый раз вас увидела, вы мне не слишком понравились. И даже показались неприятным, – произнесла она вслух.
Она не погрешила против истины, но то ощущение, которое возникло у нее как попытка защититься от тотчас вспыхнувшего волнения, было ей неприятно.
Они вместе рассмеялись.
– Дорогой мой, – прошептала Жаклин.
И ее маленькая, породистая, с тонкими изящными пальцами рука потянулась к красивой, с большими светлыми ногтями руке Габриэля.
Они были действительно счастливы.
И все же обоим хотелось, чтобы время, отпущенное на помолвку, поскорее прошло, словно каждый подсознательно страшился какой-то катастрофы.
Настало утро свадьбы.
Глядя на себя в длинное узкое зеркало, занимавшее угол гардеробной, Жаклин испытала приятное удивление. На ней было очень простое дневное бирюзовое платье. Но оно было яркое.
«Оно мне очень идет, – подумала она. – И выгляжу я совсем еще молодо».
Последние восемь лет в ее семье одна кончина следовала за другой – смерть отца; смерть мужа; смерть дяди-генерала; смерть барона Зигфрида, деда Франсуа; смерть другого дяди, Жерара де Ла Моннери, дипломата; смерть свекрови, баронессы Адели, – и потому Жаклин не переставала носить траур.
– Видишь ли, дитя мое, в наших семьях, – сказала ей однажды двоюродная бабушка, герцогиня де Валлеруа, – начиная с двадцати пяти лет нужно заказывать себе только черные платья.
И вот судьба подарила Жаклин передышку, вновь дала ей право на радость, на разнообразие, на светлые тона.
Жена Флорана, помогавшая Жаклин одеваться, без умолку трещала за ее спиной, не в силах преодолеть волнение, какое охватывает старых слуг, когда в жизни их хозяев происходят важные события.
– Ах! Какая же радость, что в замке будет наконец молодой хозяин, а то госпожа баронесса все одна да одна. Вот и потом Лавердюр частенько говорил Флорану, что в команде нашей не хватает молодого хозяина, который и охотиться умел бы, и вообще во всем помогал.
Внезапно Жаклин посмотрела на свою руку и вздрогнула. Она не сняла обручального кольца. «Ужас какой, – в страхе подумала она, – я чуть не явилась с ним к алтарю!..» С того далекого дня, когда Франсуа надел его ей на палец… «Четырнадцать лет и десять месяцев… мы выходим из Сент-Оноре д’Эйло… все боялись, как бы не пошел дождь, но он не пошел… большая полосатая маркиза над папертью… Я как сейчас все это вижу… нет, нельзя сейчас об этом думать…» Она осталась без кольца один-единственный раз – совсем недавно, утром, когда ювелир снимал мерку, впрочем не изменившуюся, для нового кольца.
«А почему я не могу носить оба? – мелькнуло у нее. – Да нет, я этого не сделаю. И потом, наверняка это будет неприятно Габриэлю… Франсуа, обещаю тебе, я отдам переплавить оба наши кольца и сделаю из них одно, с которым никогда не буду расставаться».
Она перечитала письмо, которое написал ей Франсуа за несколько минут до смерти и которое она, как святыню, всегда носила с собой в черном бумажнике. Почерк был нервный, торопливый, знаки препинания отсутствовали.
«Жаклин заклинаю тебя жить заклинаю тебя быть счастливой. Я уверен есть на свете мужчина способный занять рядом с тобою место которое я недостоин более занимать…» (Профессор Лартуа сказал, что «такой оборот чертовски показателен».)
Жаклин поцеловала письмо и благоговейно его сложила.
«Видишь, Франсуа, я слушаюсь тебя, – подумала она. – И выполняю твою волю. Я уверена, что Габриэль понравился бы тебе, что он тот, кого ты указал».
И тут тоже, как и с переплавкой колец, она чувствовала, что ищет отговорку, ложное оправдание своему поступку.
Старый маркиз де Ла Моннери должен был сопровождать племянницу к алтарю. Но Жаклин сама вела слепца через маленькую темную часовню, переделанную около 1830 года под псевдоготический стиль.
Габриэль в последний раз надел свой великолепный красный доломан спаги, украшенный всеми орденами. Он только что подал в отставку.
– Мне захотелось обязательно надеть его, – шепнул он Жаклин, – потому что он привел меня к вам.
Габриэль, случалось, проявлял совершенно неожиданное ребячество, которое легко могло сойти за душевную тонкость.
Майор Жилон ликовал, стоя среди свидетелей. Он считал себя виновником происходящего и не скрывал этого.
Среди гостей было несколько родственников, несколько крупных и мелких помещиков, живших по соседству, а впереди всех слуг тихонько вытирали глаза госпожа Флоран и госпожа Лавердюр.
Для придания большего веса церемонии и во искупление былых грехов перед дарохранительницей темнела фигура отца Будре. Доминиканец, обративший в свою веру Жаклин и спасший ее от безумия, а может быть, и от смерти в первые трагические месяцы ее вдовства, прибыл из Парижа, чтобы благословить этот союз, который означал полное выздоровление его подопечной и возвращение ее к нормальной жизни.
Святой отец испытывал чувство удовлетворения, смешанное с некоей меланхолической грустью, – он благополучно довел Жаклин до окончания пути, по которому ее когда-то направил.
«Хорошо ли все у них пойдет? – думал он. – Да нет, они любят друг друга, сразу видно».
В его жестах было столько природного величия, что казалось, он совершает посвящение.
Жаклин то и дело вскидывала глаза на Габриэля – он стоял к ней в профиль, слегка сжав губы. И вдруг ей показалось, что на лицо Габриэля словно наложилось зыбкое очертание лица Франсуа, и, как и в первый раз, она едва не лишилась чувств, но не от волнения, какое испытывала сейчас, а лишь от воспоминания о былом волнении.
«У меня же было тогда предчувствие, что произойдет несчастье», – промелькнуло у нее в мозгу.
«Неужели она думает о… прошлой свадьбе?» – стучало в голове у Габриэля.
Отец Будре протянул лежавшие на подносе обручальные кольца, охватывая пару внимательным и глубоким взглядом.
На регистрационной карточке «Павильона Севинье» в Виши – это была их первая остановка по пути на юг – Габриэль впервые расписался: «Граф Де Воос». Жаклин прекрасно знала, что большой перевернутый шеврон на гербе, который изображен у Габриэля на перстне с печаткой, означает не принадлежность к высокому роду, а разве что первую букву его имени. Тем не менее, промолчав, она как бы одобрила этот поступок нового мужа. «В сущности, девяносто девять из ста титулов, которые носят сегодня, употребляют лишь из вежливости», – думала она. И в любом случае она предпочитала именоваться «госпожой графиней», а не просто «госпожой».
Главное, она испытывала великую радость от того, что не пришлось заполнять регистрационную карточку самой и что рядом с нею был мужчина, взявший на себя ведение всех дел. Ее несколько унизительному положению одинокой женщины наступил конец.
– Пойдемте вымоем руки и тут же спустимся ужинать, – сказал Габриэль, – а то уже очень поздно.
За едой, сидя в глубине почти пустого зала, Жаклин вдруг заметила:
– Но почему мы говорим так тихо? Нам же нечего прятаться.
– В самом деле, – отозвался, рассмеявшись, Габриэль. И, взяв из ведерка бутылку шампанского, наполнил бокалы.
Когда они вернулись в свой номер, обставленный жемчужно-серой мебелью – подделкой под Людовика XVI, – Габриэль, прямо с порога, заметил стоявшую на ночном столике фотографию Франсуа.
Лицо Габриэля стало жестким и застыло, прекрасные светло-карие, с большими зрачками глаза на мгновение почернели. Не говоря ни слова, он прошел в свою комнату.
«Что мне делать? – раздеваясь, размышлял он. – Нужно тотчас это пресечь. Но если я прямо сейчас устрою сцену, она, насколько я ее знаю, взорвется. Глупо же с первых минут начать ссориться из-за другого. Скажу ей об этом завтра. А! Вообще-то плевать я на все хотел!»
Но он чувствовал, что зря не высказал своего недовольства сразу и позволил Жаклин одержать над ним верх.
Жаклин, в свою очередь перехватив взгляд Габриэля, подумала: «Какая же я дура. Надо было все-таки сообразить. Что теперь делать? Убрать фотографию в чемодан? Но это будет еще хуже для всех троих. Вот чего я боялась! Придется отказаться от всего, что мне было дорого».
Когда Габриэль вернулся в спальню, умывшись и немного расслабившись, он заметил, что фотография уже лежит на туалетном столике, прикрытая, будто невзначай, разными мелочами.
Габриэль три недели выдерживал пост, что было для него большим достижением. Но он считал необходимым как бы очистить плоть.
И он отдался страсти торопливо и неистово.
Жаклин сразу побежала в ванную. Она еще чувствовала кожей объятия Габриэля.
«Естественно, глупо было бы тотчас обзаводиться ребенком, – думал он, ожидая ее. – С Франсуа она забеременела сразу же. Забавно, но с любой другой женщиной я бы первый сказал: “Ты что же, не хочешь вставать, малышка?” А тут я об этом и не вспомнил».
Когда она вернулась, он курил.
«Совсем как Франсуа», – подумала она.
Габриэль почти сразу снова овладел ею; на этот раз он не торопился, и Жаклин познала блаженство.
Когда затем он взглянул на нее, глаза ее были закрыты; слезы ручьем текли из-под сомкнутых век, и она большим усилием воли сдерживала рыдания.
Габриэль почувствовал, как его затопляет гордость.
– Простите, простите меня, – прошептала Жаклин. – Я совсем глупая, правда? Но все это было так давно.
И слова «так давно» тотчас убедили Габриэля в том, что Жаклин снова вспоминает Франсуа. Он знал, что первое соприкосновение с незнакомым телом неизбежно вызывает в памяти, пусть едва уловимое, воспоминание о том, с кем связаны долгие месяцы, а то и годы привычных отношений. И тому, у кого это сопоставление невольно возникает, кажется, что он изменил.
Да разве сам Габриэль не вспомнил в этот момент ненасытность Сильвены, ту дрожь, что еще долго потом пробегала по ее телу, не представил три пучка пламени – в низу ее живота и под мышками – три вершины адского треугольника? Разве мог он не сравнивать запахи?
Он разглядывал сквозь легкую ночную сорочку, не снятую из стыдливости, тело Жаклин, тонкую, прозрачную кожу у ключиц.
Грудь ее после двух родов немного расплылась.
«А я шлялся по борделям и вожжался с берберийками», – подумал Габриэль.
– Вы собираетесь вечно держать возле себя эту фотографию? – неожиданно спросил он, хотя обещал себе этого не делать.
– Нет, простите меня, Габриэль, – ответила Жаклин, взглянув на него страдальческими глазами. – Я сразу почувствовала, когда мы вошли… Но не я тут виновата: чемодан разбирала горничная. И вытащила… рамку, не зная… Если бы я делала это сама, я бы… – Она говорила совершенно искренне.
– Но все-таки вы взяли ее с собой! – сказал Габриэль.
– Послушайте, дорогой, я думала, что мы с вами условились…
– Да-да, разумеется, – бросил он. – У меня нет никаких оснований просить вас не брать с собой этой фотографии. Все в высшей степени объяснимо.
И он снова почувствовал, что совершил важную тактическую ошибку, пойдя на такую уступку. Он не мог избавиться от мысли: «Вечно уступать».
Однако у него была причина избегать ссоры. Подспудная тревога, не оставлявшая его в последние недели, о возможной физической несовместимости с Жаклин рассеялась в первую же ночь.
– И потом, я должна вам сказать, – еле слышно добавила Жаклин, – что, если бы Франсуа не умер, мы никогда не узнали бы друг друга… то есть… не стали бы близки, как сейчас.
«Естественно!» – подумал Габриэль, не замечая, что тем самым она ставит его на второе место, а он с легкостью на это соглашается.
Ибо он-то был жив и потому считал себя победителем.
Легко, дрожащим пальцем Жаклин провела по розовой полоске, разрезавшей по всей длине, как большой ломоть хлеба, левое предплечье Габриэля. У Франсуа такая же нежная, более светлая, чуть припухлая с обеих сторон отметина шла по правому боку – след от осколка снаряда.
– Решительно, мне суждены мужчины, отмеченные шрамами, – с улыбкой прошептала Жаклин.
С тех пор, куда бы они ни ехали, Жаклин всюду брала с собой и держала в спальне фотографию Франсуа; она только вставила в ту же рамку портреты двух своих детей, которые частично перекрывали изображение отца.
Однако глаза покойного всегда виднелись над детскими лицами.
Театр де Де-Виль
Симон Лашом застегивал пуговицы на манжетах, стоя у камина, обрамленного двумя маленькими колоннами из зеленого мрамора.
Потолки в квартире были низкие, как в большинстве домов на Левом берегу. Окна комнат, где жила Марта Бонфуа, выходили на набережную Малаке. По другую сторону раздвинутых занавесей на Сену опускался туманный вечер, какой бывает обычно в конце сентября, обертывая ватой Лувр и окружающие его сады.
Комната, где новоиспеченный депутат неспешно заканчивал одеваться, освещенная мягким светом, с камином в виде миниатюрного античного храма, внутри которого на подставках с медными шишками горели короткие поленья, походила на маленький теплый, излучающий счастье камень с выдолбленным в нем альковом.
Симон Лашом знал, что, выйдя сейчас на улицу, он посмотрит на окно Марты глазами, исполненными и нежности, и гордости. Он вспомнил ту ледяную ночь, восемь лет назад, когда, возвращаясь из дома поэта Жана де Ла Моннери, где присутствовал при его кончине, он шел пешком по пустынной в тот ночной час набережной, чувствуя внутреннюю уверенность в том, что стоит на пороге решительного поворота в своей судьбе. Мог ли Симон тогда предположить, что по капризу этой же судьбы он найдет приют в доме, по которому когда-то едва скользнул взглядом, не увидев его (как верно, что среди тысячи впечатлений, воспринимаемых нашим глазом, по-настоящему до глубины нашего сознания доходят только те, которые соотносятся с каким-либо нашим желанием или будят в нас воспоминания)?
Одновременно перед глазами Симона, устремившего взгляд на огонь, который грел низ его брюк, за легким ровным пламенем возникал тихий августовский день, большое убранное поле, выжженное солнцем, со снопами скошенной ржи, что вздымались на ковре осыпавшейся соломы, а под ними спят солдаты перед серьезной операцией. И наконец, подумав о теплом чувстве, которое охватит его позже, когда текущее мгновение снова всплывет в его памяти, он испытал ощущение, близкое к ностальгии, равное на самом деле осознанию своего счастья.
Ах, сколь же бесценна эта женщина, чье присутствие, чья плоть, чье слово дарят ему всегда блаженное расслабление, час забвения и неожиданно пробуждают к действию все уголки его сознания, все мысли, которые словно разом наполняют его мозг!
Симон ощущал необъяснимую вселенскую благодарность – ведь ему пошел уже пятый десяток, и вдруг он получает любовницу, рядом с которой чувствует себя молодым, всякий раз будто вновь открывая самого себя, и кажется себе новичком как в искусстве интриги, так и в искусстве любви…
– Спасибо, Марта, – проговорил он, медленно повернувшись к ней.
– За что, дорогой Симон? – спросила она, улыбаясь.
Он неторопливо махнул рукой.
– За то, что ты есть, – ответил он.
Марте Бонфуа было пятьдесят шесть лет, и ее прекрасные серебряные волосы, живые, мягкие и блестящие, которые она умела красиво причесать, не только не старили ее, но служили оправой, обрамлением ее лица. Улыбка никогда не сходила с ее губ, обнажая ровные блестящие зубы, а если она гасила улыбку, лицо ее по-прежнему словно бы еще улыбалось, мягко светилось.
Она никогда не боялась общества молодых девушек: рядом с ней они казались существами другой породы, другой, менее развитой расы, и Марта Бонфуа словно говорила им: «Вот, дети мои, вот какими вам нужно стать».
А уж среди женщин, которым перевалило за тридцать, она и вовсе не имела соперниц.
– Марта? О, она принадлежит к феноменам, которые встречаются раз или два в столетие, она – Нинон де Ланкло…[7] Спать с ней – один из способов достигнуть бессмертия! – громогласно возвещал своим тягучим, ироничным, хриплым голосом драматург Эдуард Вильнер, представлявший собой – как и Марта – феномен среди мужчин.
На злословие завистливых подруг Марта Бонфуа отвечала с простотой, объясняющейся уверенностью в своем превосходстве:
– Да нет, я вела жизнь не более распутную, чем большинство из тех, кого мы знаем. А если у меня и было любовников больше, чем у них, так только потому, что я дольше оставалась съедобной, – вот и все.
Симон глядел, как она сидела в просторном черном атласном халате, окаймленном высоким рюшем из белого тюля, над которым, словно над плоеным воротником, горделиво возвышалась голова; кипень тюля, опускаясь на грудь и пенясь на гладком круглом колене, кольцами ниспадала на ковер.
Она напоминала какую-то известную картину или какой-то никогда не созданный шедевр, моделью которого она могла стать сама.
Симон надел пиджак.
– О! Умоляю, дорогой, не носи больше траурную повязку, она ужасна. За версту отдает провинцией, – сказала Марта. – И это ничего не добавит к печали, какую ты, вероятно, испытываешь после смерти матери.
– Да, я знаю, – отозвался Симон, ища оправдания. – Я нацепил ее потому, что собираюсь в свой округ.
– Да нет же, ты носишь ее все время. Уверяю тебя, черного галстука вполне достаточно. – Она пошла за ножницами, лежавшими на туалетном столике. – Ты ведь доставишь мне это удовольствие, правда? – сказала она. И принялась спарывать с рукава Симона кусок темной траурной материи.
«Ей всего на десять лет меньше, чем было матери… Она поразительна», – подумал Симон.
Взгляд его вернулся к камину. На зеленой мраморной каминной доске, над маленьким фронтоном храма, стояли, подобно богам – покровителям этого дома, фотографии мужчин – почти сплошь политических деятелей, притом знаменитых или пользовавшихся известностью в свое время. Лестные, ласковые посвящения были составлены таким образом, чтобы за ясной сдержанностью слов проглядывало нечто большее. Эдуард Вильнер, представлявший на камине литературу, в выражениях, как правило, не стеснялся, но на сей раз остался в рамках приличия, преступить которые ему бы и не позволили, вместо обычного «Марте» на своем изображении он написал: «Ах, Марта!» – и десять точек вслед. На портрете великого профессора медицины, Эмиля Лартуа, в мундире академика, посвящение располагалось весьма артистично, но прочесть его было нельзя. Среди фотографий людей разного положения, выставленных по иерархии, можно было узнать несколько премьер-министров: самые давние, блеклого коричневого цвета, изображали лица умерших и относились уже к истории. Из тех же, кто еще оставался в живых, без труда можно было бы составить кабинет министров. К тому же из этого не следовало, что Марта не получала советов у своих прежних или настоящих любовников, не участвовала в интригах, не собирала у себя в дружеской обстановке противников, которые вряд ли встретились бы где-либо в ином месте, не высказывала своего мнения при распределении портфелей или не старалась заполучить должность для своих протеже.
Приобщение к милостям Марты давало Симону не только ощущение того, что он как бы получает доступ в Пантеон, но и уверенность, что только совсем уж непростительная ошибка помешает ему в самом недалеком будущем стать заместителем министра.
По-прежнему делая вид, будто он греется у огня, Симон развлекался тем, что сравнивал измененные почерки на камине, осторожные подписи, неуклюжие росчерки; он получал удовлетворение, убеждаясь, что среди выставленных физиономий многие походят на него: некий тип человека в очках, с лысиной, с широким, срезанным подбородком проходил как постоянная данность через жизнь Марты. Быть может, потому, что именно такой тип людей довольно часто пробивался к власти…
Он увидел в зеркале, висевшем над фотографиями, свое живое, из плоти и крови, лицо.
Марта Бонфуа уважала молчание Симона, она понимала, что если политические деятели умолкают, значит, они думают о себе и находят в своих размышлениях основания для гордости за удавшуюся карьеру.
А уж Лашома, представлявшегося ей таким юным, только-только формирующимся, она разглядывала с еще большей нежностью…
– В сущности, – внезапно промолвил Симон, – Республикой управляют главным образом некрасивые люди.
На лице Марты появилось выражение, которое можно было расшифровать: «Моей красоты всегда хватало на двоих…»
– Знаешь выражение Талейрана: «Красота для мужчины – это выигрыш в две недели», – сказала она вслух.
Симон просиял: вспомнив эту фразу, Марта сделала ему королевский подарок.
Марта действительно не любила красивых мужчин. Она любила мужчин талантливых, а главное, тех, кто управлял, кто был способен управлять или кому она помогала взять бразды правления.
Незаметная деформация ее психики привела к тому, что наиболее полное физическое удовлетворение она получала только с ними. Наделенная от природы внешностью и умом, достойными любовницы короля, она опровергала общепринятое мнение, будто есть люди, не способные преуспеть, ибо живут не в свою эпоху. Ей удалось стать королевой при Республике, меняя принцев так же часто, как менял их народ, и с поразительной точностью предвидя в своем личном выборе вкусы власть предержащего парламента. Она воплотила Марианну[8]. Она любила поправлять галстук на груди трибуна, гладить живот, округлившийся после банкетов во время предвыборной кампании, и слушать разговоры о кредитах для армии, почесывая спину представителю власти.
А разве предшественник Симона, занимая пост министра изящных искусств и заказывая для Республики новое изображение Марианны, не дошел в своих ухаживаниях до того, что настоятельно рекомендовал скульптору взять в качестве модели Марту Бонфуа? И именно под ее изображением в целом ряде коммун сочетались браком юные пары.
Вместе с тем Марта не любила пышности. Она была вполне счастлива, обосновавшись в самом центре Парижа, напротив громадного дворца, где она, по всей вероятности, могла жить несколько веков назад, в уютной квартире с низкими потолками, обставленной в стиле Директории[9] (Диана де Пуатье, поселившаяся у госпожи Тальен…[10]). И именно сюда ее «близкие друзья» стремились принести первую весть о своем триумфе или поражении.
И долго еще, оборвав постоянную связь, Марта соглашалась время от времени провести с бывшим любовником ночь, отмеченную особой пряностью, – ночь, полную воспоминаний. Она умела, как никто, всегда, при всех обстоятельствах сохранить к «близкому другу» душевное тепло, ибо отлично знала, что люди, даже проигравшие в результате скандала, в конце концов – в случае, если им суждено жить достаточно долго, – вновь достигают власти. И очередной любовник не мог особенно досадовать на это: ведь прежние оказывали ему так много услуг!
Когда Марта Бонфуа меняла фаворита, она умела ловко и изящно устроить ужин, пригласив нескольких «близких друзей»: «никогда не меньше, чем Граций, не никогда больше, чем Муз», – и ввести его в их круг.
Последний раз, выходя от нее после такого ужина, Эдуард Вильнер на лестнице, положив руку на плечо Симона, сказал:
– Какое же сокровище эта Марта! Знакомит нас с такими людьми!
Симону повезло, что Марта выделила его сразу после апрельских выборов как одного из самых интересных «мальчиков», которые станут лидерами в новом составе палаты.
– Он – неплохой материал, – сказал Стен, председатель парламентской группы, к которой принадлежал Симон. – А ты, Марта, должна скроить его как надо.
– Ну, отчего же не попробовать? – промолвила она, неотразимо улыбнувшись.
И вот теперь Симон попал под покровительство могущественных людей, которым оставалось лишь помогать ему взбираться по лестнице, ведущей к почестям, ибо он приобщился к их тайнам, их интригам и их порокам.
Благодаря Марте Симон стал одним из намечаемых заранее наследников трона на пятнадцать мест, называемого Скамьей Правительства, и, когда она увидит его там, она сможет с радостью заключить: «Лашом? Это мы его сделали!»
«Мы» – значит она и те, чьи изображения выставлены на камине…
«Красота для мужчины…» – повторил про себя Симон, стараясь получше запомнить остроту Талейрана. И, подумав о Талейране, он вспомнил отца Ноэля Шудлера, старого барона Зигфрида, который ребенком встречал знаменитого дипломата. «Подумать только, ведь я был знаком с человеком, видевшим Талейрана. Как же коротки наши связи с историей».
Это вернуло его к главному делу сегодняшнего дня.
– Марта, – сказал он, – меня беспокоит Ноэль Шудлер. Мне кажется, он потерял контроль над собой. Сегодня утром какой-то псих явился к нему с предложением построить железную дорогу через Африку – от Конго до Занзибара. Он взглянул на планы и ответил: «Ваш проект с финансовой стороны могу осуществить только я. И я вытяну вашу компанию. Через полгода можно начинать работы». А завтра ему предложат построить туннель под Ла-Маншем, и он ответит то же самое.
Симон принялся перечислять все причуды банкира за последние месяцы. Шудлер перекупил театр Тальма, дирекция которого разорилась; вложил два миллиона в дом моды, устраивая презентацию его коллекций в зале своего особняка, на авеню Мессины; казалось, он точно в лихорадке решил охватить своим влиянием все сферы человеческой деятельности. А что до «Эко дю матен», где Симон после выборов не может уже исполнять функции ответственного секретаря и должен получить должность администратора, на этот счет у Ноэля Шудлера тоже созрел грандиозный план: он хочет создать газету, которая издавалась бы во всех мировых столицах – в Лондоне, Нью-Йорке, Риме, Рио-де-Жанейро…
– Я боюсь, что он близок к катастрофе, – заключил Симон. – Это человек, которому я бесконечно обязан, и, быть может, только ко мне он еще как-то прислушивается. Что тут делать?
Марта Бонфуа закурила сигарету, как всегда в минуты раздумья. Она прошлась по комнате, окутанная шелковистыми фалдами халата.
– И он по-прежнему так странно двигает пальцами, будто все время катает шарик? – произнесла она. – Как это раздражает и утомляет. – Она снова задумалась… – Ничего не надо делать, Симон, мой мальчик, – снова заговорила она. – Если ты будешь ему противодействовать, рано или поздно вы все равно поссоритесь. Так что, наоборот, поощряй его прихоти и следи за ним.
Она по опыту знала, что общество не решается тронуть идолов, которым привыкло поклоняться, даже когда они теряют свое могущество; и наиболее прозорливые, понявшие, что нельзя больше им молиться, вынуждены подчиниться большинству, еще верящему в них: слишком силен страх, слишком много служителей их культа привязаны к кормушке, чтобы позволить пошатнуть прогнившее основание, а потому нужно просто выждать, пока все само собой рассыплется в прах.
– Безумие властей предержащих – тех, кто достиг вершин, – вещь странная, но встречается довольно часто, – снова заговорила Марта, повторяя слышанную когда-то фразу. – Робер (она имела в виду председателя Стена, чье изображение украшало камин: Марта всегда честно указывала источники) однажды превосходно мне это объяснил с присущим ему, как ты знаешь, умом. Оказывается, чудовищное количество стариков продолжают управлять гигантскими предприятиями и даже страной, в то время как они уже совершенно выжили из ума и впали в детство, – и сделать с ними никто ничего не может.
Марта Бонфуа подошла к Симону, положила руку ему на бедро, склонила серебряную головку к его плечу и, обращаясь к изображению Симона в зеркале, сказала:
– Кроме того, если Шудлер рухнет, это сильно отразится на Анатоле Руссо, что, в свою очередь, я думаю, доставит большое удовольствие Роберу и его друзьям. Они даже были бы весьма признательны, если бы можно было подтолкнуть немного колесо…
– Но Руссо – мой бывший патрон, ты же знаешь, Марта. С ним я как раз и начинал. Я заведовал его канцелярией.
– Ну что же, мой дорогой, тем хуже. Мы не любим Руссо, я говорила уже тебе об этом, – заметила Марта твердо, тоном, указывавшим на бессмысленность спора.
Затем голос стал нежнее, рука сильнее стиснула его бедро – и два лица в зеркале приблизились друг к другу.
– Ты еще молод и слишком добр, Симон; если хочешь, оставайся пока таким. Но не следует идти ко дну, спасая трупы. Понимаешь, дорогой?
Она улыбнулась.
– Да, да. Спасибо, Марта, – промолвил Симон…
Он скользнул рукой в вырез халата, раздвинул белую кипень тюля и стал смотреть, как в зеркале его пальцы благодарно сжимают эту прекрасную грудь, разумеется, подхваченную лифом, но все еще полную, упругую и нежную, ласкаемую до него теми же руками, что подписывали законы, договоры и помилования.
Чета Де Воос провела три месяца в Италии.
Габриэль не бывал в этой стране, зато Жаклин посещала ее дважды вместе с Франсуа.
Новобрачные отказались от идеи поехать к Лаго-Маджоре и на Борромейские острова, очень модные в 1913 году, когда Жаклин побывала там во время своего первого брачного путешествия, и предпочли им более обрывистые берега озера Комо. По молчаливому согласию они также избрали Виченцу вместо Вероны, а башни Сан-Джиминиано вместо розовых камней Сиенны. Но внезапно Жаклин пожалела об этом. Ей все-таки хотелось снова увидеть Сиенну.
– Ну что же, поедем, ничто нам не мешает, – сказал Габриэль.
– А вы не будете сердиться, дорогой? – спросила она. – Уверяю вас, вы должны это увидеть.
Несколькими часами позже, застыв на монументальной, неправдоподобно прекрасной площади Муниципио, а потом шагая по залам пинакотеки, заполненным работами Содомы и Беккафуми, Жаклин исподтишка наблюдала за выражением крупного лица Габриэля, на котором читалось не то безразличие, не то злоба, не то скука, не то просто торопливое желание успеть еще куда-то, свойственное туристам.
Габриэль, казалось, был доволен лишь за рулем автомобиля, проезжая мимо восхитительных пейзажей, оценить которые ему мешала забота о том, чтобы не сбиться с пути. Тем не менее они не могли проехать мимо городов, обязательных для истории каждой любви и для всех воспоминаний. Венеция, Флоренция и Рим.
Жаклин старалась разделить с Габриэлем радость открытия изумительных вещей, и в то же время ей хотелось познакомить его с местами, столь дорогими для нее, чтобы впоследствии открыто говорить о них.
Крутыми улочками, напоенными запахом нагретых пиний, мимо знаменитых статуй, горделиво несущих свое мраморное тело в прохладной глубине музейных галерей, перед шепчущими фонтанами и поросшими мхом бассейнами, где умирал зеленый и золотистый вечерний свет, испытывая странную радость, сладостное страдание, водила Жаклин двух своих любимых, живого и мертвого. Иногда, по пути, она вспоминала еще и об отце.
– Папа написал тут стихотворение, – говорила она.
И начинала читать:
О заревом зари дотла спаленный Рим!
О Палатинский холм, о солнца гневный трон,
Багровый, круглый, злой, как некогда Нерон…
или еще:
Садами Весталок бродили весь день
Средь хаоса мраморной крошки и пыли.
Где б нам примоститься, искал я. И были
Теплы дуновенья, и длинною – тень.
Как вдруг я увидел: движеньем одним,
Смеясь, развязала ты бант, без сандалий
Ступая на камни, что помнили, знали,
Как нес себя Цезарь, ступая по ним[11].
Редко она забиралась дальше второй строфы. И, желая показать, что понимает, насколько старомодны эти стихи и смешна чрезмерная привязанность к семейным узам, добавляла:
– По-моему, отец писал это, как раз когда он был влюблен в Казарини! И кажется, в тот день она подвернула ногу… Вот где источник поэзии.
Но Габриэль не был ни художником, ни интеллектуалом. Италию он рассматривал как школу для приложения сил профессиональных литераторов.
И, пресытившись соборами и снятиями с креста, с раскисшими от святой воды пальцами, глядя на мраморную плоть или вылинявшую фреску под гнусавое бормотание гида, отвечающего урок, которого Габриэль не слушал, он ловил себя на мысли: «Профессия – муж богатой вдовы…»
Девушки на улицах казались ему гораздо красивее, чем он ожидал, и, наоборот, аристократки – менее привлекательными, чем ему представлялось по романам Д’Аннунцио. В римских салонах он встречал такое количество герцогов, маркизов, принцесс и баронесс, что совершенно не мог вообразить, чтобы все эти титулы были подлинными, и это придавало ему уверенности в праве носить свой, выдуманный им самим. В светских салонах, во время легких флиртов, которые он затевал или которые затевали с ним, он мог заметить, что Жаклин не ревнива. Из этого он заключил: она не питает к нему никакой страсти и остается по-прежнему верна воспоминаниям о первом муже.
Когда в начале октября они вернулись в Париж, госпожа де Ла Моннери, мать Жаклин, спросила Габриэля своим не допускающим возражения тоном:
– Ну что, Франсуа? Как вам понравилась Италия?.. Почему у вас вдруг сделалось такое лицо? Ах, да, в самом деле, вас же зовут Габриэль. Я всегда забываю… А я, знаете ли, в конце концов невзлюбила эту страну. Мой муж слишком много времени проводил там с другими. И всякий раз, как у него появлялась новая любовница, он вез ее туда.
– Решительно, это наследственное стремление, – прошептал Габриэль.
– Что? Что вы сказали? – переспросила госпожа де Ла Моннери, которая слышала все хуже и хуже.
– Я говорю, там очень красиво, – громко произнес Габриэль.
А Жаклин тем временем думала: «Наверное, лучше было бы нам поехать в Испанию. Ну что же, съездим туда в следующем году».
В силу того что состояние принадлежало Жаклин и долгие годы она жила одна, а за время первого замужества успела приобрести кое-какой опыт, все важные решения в их жизни принимала она сама. Габриэль же, хоть и напускал на себя вид фанфарона, которому якобы все по плечу, стоит только взяться, на деле занимался лишь мелочами. Скажем, садился на битком набитые чемоданы, или ходил в банк, или записывал адреса в адресную книгу. Как у многих не занятых делом людей, у него появилась привычка без конца смотреть на часы, как бы следя за несуществующим расписанием.
Распределив таким образом заботы совместной жизни, Жаклин и Габриэль ощущали теперь себя в безопасности.
Они решили проводить бо́льшую часть года в Моглеве. В качестве парижской резиденции Жаклин выбрала особняк на улице Любек, которым она владела вместе с матерью и где после смерти поэта госпожа де Ла Моннери жила одна.
Старая дама из принципа покапризничала, жалуясь, что ей приходится менять свои привычки. Но в действительности была довольна.
К старости она усохла, но не согнулась. Ее жесткое, высокомерное лицо, как и раньше, обрамляли пышные седые с голубым отливом волосы, но прежняя величественная осанка исчезла.
– Бедный мой Франсуа, – обращалась она к Габриэлю, – представьте себе – у меня ведь было такое восхитительное тело, и я им – увы! – так бессмысленно распорядилась, на что, замечу в скобках, моему мужу было совершенно наплевать… Так вот теперь, когда я одеваюсь, уверяю вас, я закрываю глаза, чтобы не видеть себя в зеркале. Как жестоко обходится с нами время!
Она перестала лепить куколок из хлебного мякиша, что было ее любимым занятием многие годы. Теперь каждый день она посвящала четыре часа игре в бридж с дамами своего возраста.
Габриэль согласился жить вместе с ней. Он поставил только одно условие.
– Жаклин, – сказал он, – попросите все-таки вашу матушку, чтобы она соблаговолила запомнить мое имя.
Детей также, к их большой радости, перевезли на улицу Любек, Жан-Ноэль по-прежнему занимался в Жансон-де-Сайи, а Мари-Анж забрали из коллежа Птиц Небесных и записали в школу при монастыре Успения, находившуюся неподалеку от особняка Ла Моннери.
Выигрышем от этой перемены было избавление – кроме четверга – от тягостных обедов с дедом, а проигрышем – потеря возможности ездить каждый день на массивном «роллсе».
Между детьми и Габриэлем так и не установилось пока никакого контакта, никакого общения. Они держались с ним любезно, но холодно. Слово «daddy»[12], которое им попытались навязать, с трудом шло на язык, смущая и самого Габриэля. Тем не менее Мари-Анж не могла оставаться равнодушной к красоте и элегантности отчима. В его присутствии она тщательно подбирала слова и старалась поизысканнее строить фразы. Что же до Габриэля, его блестящие звериные глаза угрюмо задерживались иногда на обоих детях. Затем грудь его вздымалась от глубокого печального вздоха, и он смотрел на ручные часы.
Нужно было заняться перевозкой вещей Жаклин, оставшихся в особняке Шудлеров, – всего того, что напоминало о ее жизни с Франсуа.
Габриэль охотно согласился вызвать грузчиков: это входило в его обязанности.
Однако в назначенное утро у Жаклин, которая не была подвержена мигрени, случился жесточайший приступ, безусловно, лишь на нервной почве, но от этого не менее болезненный.
– Габриэль, – измученным голосом сказала она, – я хочу просить вас съездить со мной на авеню Мессины. Простите, я понимаю, что радости это вам не доставит, но мне в самом деле нехорошо, а дело нужно сделать. А потом, обещаю вам, с этим все кончено: мы никогда больше не будем говорить о том… что вам неприятно, – закончила она, сделав неопределенный жест рукой, словно обещающий все возможные уступки.
Габриэль чуть не отказался наотрез, собравшись посоветовать ей выбрать для болезни другой день. Но все же решил проявить великодушие.
– Хорошо, я еду, – промолвил он.
Жаклин была бесконечно признательна ему за понимание.
В то же самое утро, едва рассвело, барон Шудлер произвел тщательный осмотр комнат той части особняка, где жили Франсуа и Жаклин, перерыл все ящики и захватил все предметы, все бумаги, которые, как ему казалось, должны были оставаться у него, включая жемчужины с манишки сына.
Но вместо того чтобы, по обыкновению, отправиться в банк, старый исполин заперся у себя в кабинете на втором этаже и приказал не беспокоить его ни под каким предлогом.
Когда Габриэль и Жаклин приехали, грузчики были уже на месте. Жаклин отдала необходимые распоряжения и легла с компрессом на лбу на свою прежнюю кровать. Она была словно в черном тумане: перед глазами вспыхивали золотые круги, и каждое слово, каждый звук мучительно отдавались в висках. Ее мучил вопрос, не началась ли у нее в самом деле какая-то серьезная болезнь. Но в то же время она смутно чувствовала, что боли притупляют волнение, которое вызывает у нее переезд, и спасают от более жестокой муки – муки памяти. «Бедняжка Габриэль… какой он все-таки милый», – мелькало временами у нее в голове.
«Бедняжка Габриэль», сжав губы, нахмурив лоб, наблюдал в соседней комнате, как упаковывают книги и безделушки, поскольку больших вещей, которые нужно увозить, не было.
Время от времени через открытую дверь он справлялся у Жаклин:
– Белая фарфоровая лампа?
– Нет, остается, – слабым голосом отвечала Жаклин.
Она мысленно видела, как эта лампа, находившаяся в трех шагах от нее, зажигалась в давно ушедшие дни. Сколько вечеров – как мало вечеров – они с Франсуа сидели около ее огня! А теперь, думала Жаклин, как хорошо, что есть другая лампа на улице Любек, горящая для Жаклин и Габриэля, и есть еще одна лампа в Моглеве. Она стянула пониже на глаза мокрую повязку, потому что при одной мысли о повторении счастливых мгновений у нее полились слезы.
В низу опустевшего шкафа Габриэль обнаружил пару мужских вечерних туфель. Сквозь слой пыли они поблескивали лаком, развернувшись носками в комнату. Можно было подумать, что тень покойного стоит там в собственных туфлях и тоже наблюдает за упаковкой вещей. Габриэль инстинктивно захлопнул дверцу. Сердце у него забилось сильнее.
– А это… эти туфли, – крикнул он Жаклин, – вы обязательно хотите их сохранить?
– Пусть отдадут слугам, – ответила она, не шелохнувшись.
– Уверяю вас, Жаклин, – едко заговорил Габриэль, – по-моему, вы совсем больны. И я не уверен, сможете ли вы выдержать предстоящий охотничий сезон. Вам нужно полечиться.
– Да, да, – согласно прошептала она.
Габриэль смотрел на жену, которая лежала, вжавшись головой в подушку.
«Здесь, на этой кровати, Франсуа спал с ней, – подумал он. – И она ждала его, чуть раздвинув ноги, точно так, как лежит сейчас…»
Обжигающий ток пронзил его тело, руки до боли сжались. Он отвернулся и попытался сосредоточить все внимание на рабочих, на их больших, покрытых пылью, ловких руках, бережно укладывающих хрупкие предметы в соломенные гнезда ящиков. Но взгляд Габриэля снова и снова возвращался к проему двери, к кровати.
«Нет у нее никакой мигрени, все это вранье: просто она сейчас занимается с ним любовью. К тому же на глазах у меня… на глазах у меня!»
Он перешел в другой угол комнаты, не в силах избавиться от этого видения. Взгляд его то и дело наталкивался на компресс, белевший, словно маска, под которой он представлял себе лицо жены, послушной желаниям другого.
«Да пусть она себе вожжается с трупом, если это будоражит ей кровь!.. Я-то все равно женился на ней только ради монет. А если уж мне приспичит, так я ее…»
Самые непристойные выражения, знакомые ему по злачным кварталам и борделям, вспоминались и опьяняли его, точно алкоголь, с помощью которого он стремился уйти от правды, не желая признавать ее, согласиться с тем, что он любит Жаклин и страдает, терзая и гордость свою, и плоть ревностью к прошлому.
А перед ним вставал, преследуя его, как нерешенная головоломка, покойник, другой – тот, чьи останки давно уже гнили в дубовом ящике и чей образ теперь воссоздается постепенно, начиная с точного размера обуви, с высоты кресла, с контура груди, как бы застывшей в изгибе старого бумажника, со следа на вечном пере, оставленного пальцем.
Внезапно отворилась другая дверь, и появился барон Шудлер. Он не сдержался и нарушил запрет, данный самому себе.
Он заполнил собою весь проем двери; между набрякшими веками вспыхивал красный огонь, а рука, прижавшись к пиджаку, все катала невидимый шарик.
– Браво, поздравляю вас, месье, – обратился он к Габриэлю. – Вы не только похитили у меня внуков, но и явились теперь отобрать у старика последние реликвии, оставшиеся ему от сына. Да, поздравляю вас. Прекрасное занятие вы себе выбрали.
Габриэль, растерявшись от неожиданного появления и столь яростной атаки, проговорил высокомерно, но все же запинаясь:
– Но, месье… я не понимаю… Мне кажется… в конце концов, я ведь здесь не…
Услышав голоса, Жаклин встала и вышла на защиту мужа с энергией, которой Габриэль от нее не ожидал. Казавшаяся рядом с исполином еще меньше и беззащитнее, она смело пошла ему навстречу.
– Отец! – воскликнула она. – Габриэль тут потому, что я его об этом попросила, потому, что я больна, а он был так добр и в тяжелую минуту не оставил меня одну – он все понимает. У меня не укладывается в голове, каким же чудовищем нужно быть, упрекая меня в том, что я снова вышла замуж, особенно если вспомнить, какая доля ответственности за смерть Франсуа лежит на вас. – Она перевела дыхание. – И я думаю, что при таких условиях, отец, нам незачем больше видеться, разве только по делам.
Она тотчас пожалела об этой фразе, так как барон распоряжался ее состоянием.
– Именно об этом я и пришел вам сказать, – проговорил Ноэль Шудлер с холодной улыбкой. – Но не забывайте, что я – опекун моих внуков и что вы зависите от меня гораздо больше, чем вы думаете. Грабьте, месье, грабьте, покуда можете! – сказал он на прощание.
Жаклин не стала возвращаться в спальню. Мигрень ее неожиданно стихла. Она стояла, опершись на наличник двери, зажав в руке мокрый носовой платок.
– Простите меня, мне все это очень неприятно, дорогой, – тихо произнесла она.
Габриэль не ответил. Он был в ярости оттого, что впервые в жизни не ответил на оскорбление, в ярости оттого, что чувствовал себя в ложном положении. И во всем виновата Жаклин. К тому же она плохо выглядела, и за это тоже он ее ненавидел.
Из темного угла маленькой библиотеки, огражденной решеткой, один из рабочих вытащил автоматический пистолет и глядел на него с удивлением и насмешкой, какие часто появляются у простых людей при виде оружия. Рабочий собрался было отмочить какую-то шутку, как Жаклин, внезапно побледнев, резко протянула руку, схватила пистолет и сунула его в сумочку, словно святыню, которую не желала оставлять на поругание, позволять прикасаться к ней чужим и нечистым пальцам.
Габриэль снова почувствовал, как обжигающие волны гнева неотвратимо заполняют все его существо. Он схватил первое, что попалось под руку, – это оказался альбом с фотографиями – и со всего маху швырнул его на ковер. Страницы распались, фотографии вывалились… И Габриэль узнал Рим, Флоренцию, Венецию… те же бассейны, те же фонтаны, те же каналы, те же фасады дворцов… но почти на всех снимках с другим.
– Никогда больше не старайтесь делать добро, вы не в состоянии быть добрым до конца, – сказала Жаклин. – И потом слишком дорого приходится за это платить.
Она повернулась и вышла, хлопнув дверью.
Сидя в тесном кабинетике, откуда он управлял труппой своего театра, как капитан с мостика управляет кораблем, – с той только разницей, что он считал себя не только наместником Бога на земле, но и просто самим Богом, – Эдуард Вильнер писал.
Лампа освещала тяжелый склоненный торс, седые короткие, чуть вьющиеся на концах волосы и широкий плоский затылок.
По другую сторону стола из палисандрового дерева стоял молодой человек и ждал, покуда Иегова соблаговолит заметить его присутствие.
Этот молодой человек с чуть припудренным лицом был одним из актеров, занятых в новой пьесе Эдуарда Вильнера, пьесе, которую только что начали репетировать.
Знаменитый драматург поднял наконец голову и положил перо.
– А, это ты, Ромен! – сказал он. – Да, я просил тебя позвать…
Голос Вильнера звучал подобно струе воды, падающей из водосточной трубы на паперть собора, из глубины которого доносится гудение органа.
Веко его опускалось непосредственно ото лба и терялось в складках щек; огромное ухо, казалось, различало далекий гул космических сфер, а ноздри вдыхали в пять раз больше воздуха, чем требуется обыкновенным смертным. Вселенское презрение опустило уголки его губ. В глазах сгустилась ирония.
За сорок лет Париж исчерпал все сравнения, навеянные этим необыкновенным лицом.
– Я просил тебя позвать, чтобы сообщить, что твоя жена, по-моему, очень мила, – продолжал Вильнер.
Молодой актер полуудивленно-полусмущенно улыбнулся.
– Да-да, очень мила. Я говорю то, что думаю, – продолжал Вильнер. – У нее очень аппетитное тело, она умна и, кажется, с душой. Нет, в самом деле, она вполне хороша, она мне очень нравится.
Частые повторы, а главное, манера начинать фразу словами, какими кончалась предыдущая, придавали речи Вильнера известную медлительность.
Ромен Дальма, скрывавший под непроницаемым выражением лица, покрытого тонким слоем пудры, живой нрав, знал, на что способен Вильнер. Он приготовился услышать какое-нибудь гнусное предложение и почувствовал смутное беспокойство за свою карьеру в ближайшем будущем.
– Очень рад, – холодно заметил он. – Мне она тоже очень нравится.
– Вот и хорошо, вот и превосходно. Я думаю, тебе с ней очень повезло.
Драматург выдержал паузу и, пока она длилась, наслаждался тревогой своего собеседника. Потом он поднялся. Выпрямившись во весь рост, он почти достигал потолка тесной комнатушки и, казалось, обрекал собеседника на неминуемое скорое удушье.
– Очень повезло. Ты должен быть к ней предельно внимателен. Женщины, знаешь ли, – я-то хорошо их знаю – существа хрупкие и очень чувствительные. Ты даришь ей цветы? – спросил он.
– Разумеется… во всяком случае, время от времени, – вновь смутившись, ответил молодой актер.
– Мальчик мой, ей нужно дарить их каждый день. Я прибавлю тебе двадцать франков, чтобы ты мог покупать ей букет каждое утро. Ты доволен?
Изумление, радость, благодарность окрасили щеки Ромена Дальма.
– О, благодарю вас, господин Вильнер! Вот уж действительно по-королевски, – воскликнул он.
Знаменитый драматург поднял бледную дряблую руку.
– Да не зови ты меня так церемонно «господин Вильнер», точно я начальник тюремной стражи или директор Галери Лафайет. Оставь это билетершам. А ты меня зови… зови меня, как зовут все…
– Спасибо, мэтр, – сказал Ромен Дальма.
В знак удовлетворения Вильнер легонько качнул головой.
– Таким образом, теперь ты имеешь двести двадцать франков в день. Видишь, это изменение уже внесено в твой контракт. Тебе остается только подписать вот здесь. Возьми мою ручку, – предложил Вильнер, великодушно оказывая еще и подобную честь.
«Все дурное, что говорят о нем, сильно преувеличено, – думал актер, проставляя свои инициалы на полях контракта. – А к людям, которых он любит, он в самом деле относится потрясающе. И до чего деликатен в своей щедрости, как тонко дал понять, что ценит меня…»
– Превосходно. Ну давай, пока. До встречи на репетиции, – сказал Вильнер, выпроваживая его.
Актер вышел и, довольный жизнью, своей профессией, своей ролью, своей женой, своим директором и самим собою, спустился по винтовой лестнице, ведущей на сцену. Внезапно посреди второго этажа он как вкопанный остановился и хлопнул себя по лбу.
– Ах ты! Сволочь! – прошептал он.
Ибо он вспомнил, что в контрактах, заключаемых Вильнером, актер, получающий гонорар более двухсот франков, всегда обязан – в пьесах, которые играются в современных костюмах, – оплачивать свои сценические костюмы сам.
Зал театра де Де-Виль был выдержан в прекрасном классическом стиле: круглый, с мрамором и позолотой, красными бархатными валиками, идущими вдоль лож и балконов, и высоким куполом. Эдуард Вильнер любил рассказывать, откуда пошло название театра.
– В эпоху Директории было два актера по имени Девиль…
Днем ряды кресел накрывались длинными чехлами: большое судно дремало в пыльной мгле нарождающегося мира – только сцену освещал вполсилы желтоватый свет зари. Декораций не было, и обнажились штакеты, софиты, детали машинерии.
Высокий силуэт Эдуарда Вильнера неслышно двигался по залу. Посреди второго ряда скрипнуло кресло. Престарелое божество уселось на грани света и тьмы, готовясь лепить свои новые создания.
Эстер Могар и Жак де Симюр в облике Сильвены Дюаль и ее партнера Ромена Дальма репетировали одну из проходных сцен.
Дальма должен был произнести длинную, исполненную горечи тираду, которую он, еще под впечатлением мнимого повышения гонорара, прочел очень искренне.
«Неплохо: это попадание», – подумал Вильнер.
Пока Симюр говорил, Эстер должна была, не отрывая от него глаз, пересесть с кресла на соседний диван.
Со своего места Вильнер мог видеть под юбкой английского костюма ноги Сильвены Дюаль.
«Превосходные ляжки у этой девочки, – подумал он. – Прямо созданы для наслаждения». И крикнул:
– Давайте-ка сначала!
«Подумать только, что в вечер генеральной на три первых ряда придется сажать одних старых глухарей – им только и предстоит наслаждаться этим зрелищем… Ну что ж! Такое утешение мы можем им предоставить», – подумал он, приглядываясь все внимательнее.
– Так нормально, мэтр? – спросил Дальма.
– Да… но не совсем… Попробуй прибавить иронии на: «Любовь… когда больше не любишь, утомляет даже, если о ней говорят!» А ты, Дюаль, повтори-ка свой переход.
«Навязчиво… навязчиво, как цветы на обоях в новой спальне… Надо же! Кажется, вышло неплохо? Разумеется, не в связи с ляжками. Но для других вещей может пригодиться…»
Он вытащил из кармана записную книжку и на всякий случай записал пришедшее в голову сравнение.
– Нет, милый мой Ромен, – тут же сказал он, – в первый раз было лучше. Оставь, как делал раньше.
Перешли к репликам Сильвены.
Это была третья или четвертая репетиция, в ходе которой Вильнер почувствовал в себе растущий интерес к молодой актрисе, получившей второстепенную роль Эстер. Во-первых, Сильвена была рыжей, а коль скоро Вильнер, до того как стать седым, тоже был рыжим, это вызывало у него известную симпатию. Он находил, что Сильвена хорошо сложена, привлекательна, с каким-то нервным зарядом в теле и голосе. К тому же она напоминала ему любовницу, которой он, наверное, причинил много страданий лет тридцать пять тому назад.
«Но она еще слишком сырая: много претензий, а профессионализма нет. С ней надо начинать с самого начала, но она того стоит – из девочки можно вытащить подлинный талант».
Он молча слушал, в течение нескольких минут изучая, где проявляется индивидуальность, а где интонации и жесты актрисы фальшивы, отличал неповторимую самобытность от плохой игры.
– Все, все сначала! – вдруг закричал он, поднявшись, своим жутким гудящим голосом. – Ты неуклюжа, неуклюжа, как свинья! И ты ничего не поняла! Тебе кажется, что ты играешь как богиня, а ты просто полная дура.
Сильвена, которая считала, что она восхитительна, и ожидала комплиментов, повернула к нему перекошенное от досады лицо. Ее унизили, разговаривая с ней подобным образом в присутствии других актеров. Она приготовилась было ответить Вильнеру, что так с женщиной не обращаются, что после его слов она просто не сможет играть и что, вообще-то говоря, не она плоха, а роль.
Но Вильнер уже взбирался на сцену по маленькой боковой лесенке, и перед этим стариком, чье присутствие заставляло трепетать рабочих, режиссеров, ведущих спектакль, капельдинеров, актеров, декораторов, электриков, Сильвена почувствовала себя хрупкой, как тростинка.
Когда Вильнер появлялся на сцене, она будто менялась: расположение мебели, платформ, станков, даже прожекторов, светящих из-за кулис, – все приобретало нужный смысл, предназначение, реальность.
Он принялся объяснять, описывать, изображать Эстер Могар, придумывать ей семью, мучения, болезни, черпая свои описания одновременно и из повседневных наблюдений, и из анализа души человеческой. Он ходил от кресла к дивану, от дивана к двери, противореча сам себе, срываясь на крик, ругаясь, внезапно смеясь, простирая руки, затем, вернувшись к Сильвене, хватал ее за плечи и поворачивал, указывая точно ее место и выстреливая ей прямо в ухо целый залп непристойностей. Со своими громадными ноздрями и повисшей на веках кожей в эту минуту он был почти прекрасен – прекрасен, как буйвол, налегающий на ярмо, в стремлении протащить телегу сквозь комья земли, прекрасен, как бык в период спаривания, прекрасен, как дровосек, валящий дуб, или как скульптор, вгрызающийся в мраморную глыбу. Кого вызывал он на свет из невидимого куска породы? Кого лепил из замеса слов? Кого хотел оживить своим шумным дыханием? Несуществующую Эстер или живую Сильвену?
Грустно было видеть, сколько силы и знания человеческой природы тратится на создание ничтожного, маленького образа Эстер Могар, укладывающегося в восемьдесят строк ничем не примечательного текста, образа, который обречен, по всей вероятности, после ежевечерней, в течение сезона, жизни, отмеренной этими восьмьюдесятью строками, на вечное забвение среди тысяч и тысяч второстепенных театральных персонажей.
Но Вильнер знал, что в творчестве не бывает деталей и что природа затрачивает одинаковые усилия, заботу, изобретательность и старание для того, чтобы создать и крылышко майского жука, и человеческий мозг.
Все присутствовавшие – от машинистов до актеров – молчали. Они наблюдали великий миг вдохновения Вильнера. Человек этот, беспрестанно, как в беседах, так и в пьесах, с пониманием говоривший о любви, в действительности испытывал страсть лишь в подобные редкие минуты.
Двадцать раз подряд несчастная Сильвена, порабощенная, одуревшая, оглушенная, чувствуя, как слабеет тело и деревенеет голова, должна была повторять такую простую реплику: «О нет! Снова страдать, как я страдала раньше, – никогда!»
– Да неужели тебя никогда не обманывали, неужели тебе никогда не наставляли рогов! – вдруг крикнул ей Вильнер.
– А вам? – вне себя от ярости и ужаса одновременно, воскликнула она.
Вильнер выпрямился во весь рост и мгновение подумал.
– Было, малышка, один раз было, – серьезно ответил он. – К счастью! Как же мне это помогло! И видишь, до сих пор помогает.
Тогда Сильвена вспомнила тот весенний день, когда Жилон пришел объявить ей об уходе Габриэля. С тех пор у нее никого не было, не считая нескольких случайных встреч, не оставивших счастливых воспоминаний. Она почувствовала себя отверженной, покинутой, затерянной в огромном мире и в конце концов произнесла свое «…снова страдать… – никогда» так, что у зрителей в зале полились слезы.
– Ну вот, так получше, – заключил Вильнер, не выказывая своего удовлетворения и гордости.
А Сильвена, рухнув на пыльный диван, с трудом сдерживая внутреннюю дрожь и потряхивая прекрасной огненной шевелюрой, говорила приглушенным от слез голосом:
– Ну нет… ну нет, господин Вильнер… то есть мэтр… если я неуклюжа, как свинья, если мне так теперь мучиться каждый день… лучше уж вернуть вам роль.
Вильнер пожал плечами.
– Знаешь, как говаривал папаша Жюль Леметр[13], – вылилось из его рта, как из водосточной трубы. – «Актеры – те же кларнеты. В них нужно дуть…» Но бывает, – продолжал он, – случается чудо: вдруг попадется кларнет, который играет сам по себе.
И, повернувшись спиной к желтоватому свету, заливавшему сцену, он спустился по маленькой лесенке, незаметно щупая пульс, чтобы проверить, не слишком ли он переутомился.
Через несколько минут Эдуард Вильнер в шляпе из мягкого фетра, странно примятой на голове, завернувшись в громадное светло-бежевое, подбитое бобром пальто, собрался уходить, пройдя через кулисы.
– Мадемуазель Дюаль уже ушла? – спросил он у костюмерши.
– Нет, господин Вильнер, она еще здесь.
Он толкнул дверь одной из уборных. Сильвена, сидя за туалетным столиком, опершись на руки и погрузив пальцы в свою рыжую шевелюру, подскочила, заметив в зеркале отражение Вильнера.
– Хочешь поужинать со мной завтра? – сказало отражение. – Мы пойдем в «Тур д’Аржан». Тебе нравится «Тур д’Аржан»? Прекрасно, тогда мой шофер заедет за тобой в восемь.
На другой день в условленное время шофер заехал за Сильвеной и усадил ее на заднем сиденье с такими предосторожностями, точно вез хрупкую девственницу на жертвоприношение. На колени ей он накинул меховое покрывало. Но вечер был мягкий, и Сильвена показала рукой, что этого делать не нужно.
– Нужно, нужно, – настаивал шофер, – господин Вильнер просил обязательно укутать мадемуазель. И еще он поручил передать ей вот это.
И он протянул Сильвене изумительную розу, завернутую в хрустящую бумагу, на слишком длинном стебле, чтобы ее можно было приколоть к корсажу.
Говорил слуга, подражая голосу Эдуарда Вильнера – так же тягуче, как хозяин, – а полученные от него приказы словно и его самого облекали высшей властью.
Молодая актриса, грея колени и не находя иного применения единственной розе, как машинально вдыхать ее аромат, представляла себе, как она входит под руку с драматургом в ресторан, за окнами которого виднеется Сена. Человек двадцать отводят взгляд. Раздается шепот: «Это Вильнер!.. Вильнер!.. С кем это он?.. С Дюаль, исполнительницей его пьесы». Двадцать человек, которые завтра в разных местах Парижа расскажут об этом еще двумстам другим.
Сильвена почувствовала, как заколотилось сердце от легкой радостной тревоги. Ужин был этапом на пути ее мечтаний, на пути к тому дню, когда ее имя будут произносить вполголоса и когда ее появление, отвлекая внимание от всех других, будет вызывать шумок, какой обычно сопровождает знаменитых актеров в расцвете их карьеры, удостоенных этой привилегии наравне с чемпионами по боксу, премьер-министрами и немногими писателями.
Она раздумывала, как ей лучше вести себя, чтобы заинтересовать Вильнера и понравиться ему для пользы дела. Играть ли ей интеллектуалку, или женщину, выходящую в свет, или мужененавистницу, или сентиментальную дамочку, или актрису, всецело поглощенную своей профессией? Последний вариант показался ей наилучшим. Однако она не вполне была уверена в себе.
Машина остановилась на авеню Анри-Мартена: шофер предложил Сильвене выйти и провел ее в большой вестибюль с колоннами. Швейцар с ледяным видом – будто министерский клерк, – сидя в красивой застекленной будке, проводил взглядом молодую женщину. Бело-кремовый лифт в стиле рококо, стилизованный под портшез, медленно поднял ее на третий этаж.
Лакей в белом блейзере отворил дверь и молча провел Сильвену через ряд скупо освещенных комнат, сообщавшихся между собой при помощи раздвигающихся дверей; убранство их молодая женщина могла разглядеть лишь мимоходом: громадные мраморные головы – копии с античных, старые вишневые с золотом ризы, висящие в глубине застекленных шкафов, современные кресла, высокие тома старинных книг.
Сильвена, все больше робея, шла вперед, сжимая в руке стебель розы.
Освещение и тишина, царившая в этой квартире, как в храме, тайны разных миров, казалось, дремавшие под вытертой кожей переплетов, церковные облачения, застывшие лица мертвых богов и, главное, эти двери, непонятным образом закрывавшиеся за ее спиной, создавали у Сильвены впечатление, что она попала в незнакомое святилище, откуда самой ей выхода не найти.
Слуга раздвинул последние двери, и за ними открылась ярко освещенная святая святых.
Престарелое божество, почитаемое городом, поднялось из-за стола и с грацией минотавра пошло навстречу новому подношению, посылаемому ему жизнью.
На Вильнере была темно-зеленая шелковая домашняя куртка, еще больше оттенявшая белизну его коротких вьющихся волос и затылок священного быка.
– А, вот так, очень хорошо, – воскликнул он. – Я и хотел, чтобы ты так вошла. У женщины всегда должны быть в руках цветы. Но это еще не значит, что нужно вихлять бедрами и думать при этом, будто у тебя походка принцессы. Так что оставь свою задницу там, где ей предназначено быть природой, и ты рискуешь сойти за инфанту.
Комната представляла собой спальню Вильнера. Ночной столик, стоявший возле широкой и низкой тахты, накрытой мягкими шкурами и довольно странно задуманной – влезать на нее приходилось, забираясь, как на трон, по двум полукруглым ступеням, – был заставлен лекарствами, коробочками с таблетками, флакончиками с пилюлями, тюбиками, пипетками, всевозможными ингаляторами. Там были бинты и йод – на случай малейшей царапины; нечто вроде фарфоровых кокотниц для глазных ванн; лекарства для каждой железы, каждой частицы его организма.
В комнате медленно тлело полено, добавляя свой аромат к мягкому теплу батарей. На большом письменном столе лежали стопки рукописей, машинописных копий, различных заметок, помещенных в обложки разных цветов, а потом в папки по алфавиту – все было в безупречном порядке, достойном главного бухгалтера.
Сильвена тотчас заметила столик для бриджа, накрытый на два прибора.
Вильнер пустился в подробный анализ женских походок и, в частности, принялся разбирать, как ходят проститутки.
– Одни, – говорил он, – вихляют задом из стороны в сторону, и их ягодицы выпирают то с одного бока, то с другого, как щеки мальчишек, жующих жвачку; а у других походка сухая, мелкая – точно у нее недержание, – цокающая по тротуару… – Потом вдруг он спросил: – Так где ты хочешь поужинать: в «Тур д’Аржан» или здесь?
– Но… я не знаю, мэтр… вам решать, – бросив взгляд на столик для бриджа, ответила Сильвена, хотя было очевидно, что ее ответ лишен всякого смысла.
Она тотчас пожалела, что у нее не хватило храбрости, и вспомнила, как таким же образом упустила возможность получить нитку восхитительного жемчуга в день, когда она познакомилась с Люсьеном Мобланом. «Видно, мне на роду написано повторять всегда одни и те же глупости», – подумала она.
– Да не зови ты меня «мэтр», так церемонно, будто я семейный нотариус, – проговорил Вильнер. – Зови меня Эдуард, как все мои настоящие друзья. – Затем, ошарашив ее этой привилегией, он продолжил: – Ну конечно, ты права: мы ужинаем здесь. Так будет приятней. – Он тут же позвонил и приказал подавать. – И погасите свет в других комнатах, – добавил он.
Сильвена поняла, что в намерения Вильнера и не входило ужинать где-либо в другом месте. Меню было составлено из блюд, приготовление которых требует времени, но все было уже готово.
Она примирилась с неизбежностью и, заглушив разочарование, решила выполнить вторую часть программы, замысленной ею на сегодняшний вечер: суметь заинтересовать, заинтриговать, соблазнить Вильнера.
Но он почти не давал ей говорить. Он как огня боялся людей, приходивших к нему со словами: «Моя жизнь, знаете ли, прямо готовая пьеса».
И он боялся, как бы Сильвена не оказалась из той же породы.
Он, безусловно, предпочитал разглагольствовать сам, произнося избитые истины, играя парадоксами пятидесятилетней давности, звучащими уже тривиально, вроде: «Юность – не самое счастливое время». Он умел без устали привязывать новые изречения к давно известным афоризмам, чтобы придать им свежесть, добавляя:
– Старость – вот самая счастливая пора. Жаль, что она длится так недолго.
Ему не требовалось, чтобы собеседник начал о себе рассказывать. Характеры проявлялись для него гораздо явственнее в реакциях на его собственные монологи. О Сильвене он подумал:
«Эта крошка кончит либо в “Комеди Франсез” (до чего жуткие пьесы там играют!), либо хозяйкой ресторанчика – если влюбится на склоне лет в какого-нибудь посыльного из отеля или шеф-повара, – и будем мы ходить (или другие будут ходить!) в заведение под названием “У Сильвены”… Да нет, пожалуй, все-таки в “Комеди Франсез”: она слишком озабочена собственной судьбой – настоящая эгоистка!»
Поглощенный этими мыслями, он накапал в стакан двадцать капель лекарства для поддержания кальция в крови, которое дают беременным женщинам, и положил на скатерть две пилюли стимулирующего средства, собираясь принять его после жаркого, а потом уравновесить его действие таблеткой успокоительного.
Сильвена воспользовалась паузой, чтобы вставить одну из фраз, заготовленных ею в стремлении польстить его самолюбию: она выразила удивление, что он не состоит в академии.
– Это еще зачем? – воскликнул он, выпрямляясь. – Ты что, думаешь, я недостаточно поработал во славу французского языка, чтобы еще в наказание проводить четверги за перепиской словаря? А что еще это может мне дать? Повторяю тебе, я абсолютно счастлив, – продолжал он, разведя руками. – Послушай, малыш, посмотри на меня. У меня есть все. Я занимаюсь любимым делом. Я не имею несчастья быть первым драматургом своего времени – я единственный. Каждая из моих пьес закладывает еще один кирпич в здание, которое переживет меня. У меня свой театр: передо мной проходит, мне рукоплещет, сидя у меня в зале, все, что есть в Париже умного, богатого, глупого, бедного, юного, старого, нового или пресыщенного. Временами я испытываю радость, открывая актерский талант, вытаскивая его из кокона и представляя толпам дураков…
При последних словах Вильнера в груди Сильвены зашевелилась надежда.
– Прежде всего, – глухо продолжал Вильнер, пригнувшись к тарелке, – они забаллотируют меня, потому что я еврей.
– А Порто-Риш?
– Да. Порто-Риш им совершенно не мешает: он – второстепенный талант! – Вильнер взял зубочистку и немного поработал над боковыми зубами. – Но ты, может быть, предпочла бы поужинать в «Тур д’Аржан»? – снова заговорил он. – Нет, правда?.. Во-первых, «Тур» – это превосходно, но страшно дорого, и я нахожу это безнравственным… Да, что я тебе говорил?.. А, да, что я очень счастлив. И самый большой для меня источник радости – это счастье, которое я дарю женщинам… всем, ты слышишь, всем…
Сильвена почувствовала, как колени Вильнера стиснули под столом ее ноги.
– И все мне потом пишут: «Дорогой и великий Эдуард!» – продолжал он, – и дарят мне подарки, и надеются, что настанет день, когда я снова пересплю с ними. Видишь эти золотые часы – их подарила мне на прошлой неделе одна женщина. И в этом вот ящике у меня таких пар десять. Я могу уже почти лавку открывать. – Отхлебнув вина, он добавил: – А я, я помню все о каждой женщине, которую имел… запах ее пота, крик наслаждения, упругость тела…
– Не очень-то любезно по отношению ко мне то, что вы говорите… Эдуард, – сказала Сильвена, избегая смотреть на него и теребя край скатерти.
«Ага, уже ревнует?» – подумал наивный Вильнер.
– Это почему же, малышка? – фальшивым тоном осведомился он.
– Конечно, при том, что у вас такая память, вы не помните… в тысяча девятьсот двадцать втором году…
– Что в двадцать втором? – повторил Вильнер. – Мы что… с тобой спали?
Сильвена тихонько склонила голову.
В глазах Вильнера промелькнуло сомнение: «Она смеется надо мной?» – затем беспокойство и почти испуг…
– Я не решилась вам об этом напомнить, когда вы брали меня в театр, – проговорила Сильвена. – Я считала, что это было бы нескромно. Но я все-таки думала… Хотя я была тогда совсем девчонкой!
– Погоди-ка… погоди-ка… конечно же, верно… теперь я припоминаю, – сказал Вильнер. – Мы встретились в ночном кабаре, и я отвез тебя на машине, правильно? И ты как раз мне сказала: «О нет, пожалуйста, как следует». Ты хотела ребенка, а у тебя ничего не получалось… Я пытался доставить тебе удовольствие… Но подумал, что ты ничего не смыслишь в любви. Как следует-то кто угодно может… Так, значит, это была ты? Ну что же ты хочешь, ты так оформилась, так похорошела… Забавно! Нет, в самом деле, впервые такое…
В эту минуту появился дворецкий.
– Месье просят к телефону – господин Лашом, – объявил он.
– А, да, дайте мне его, – бросил Вильнер, обрадовавшись возможности переменить тему. И он направился к аппарату, повторяя про себя: «Невероятно. В самом деле, со мной такое произошло впервые». – Добрый вечер, дорогой мой депутат, – начал он. – Спасибо, превосходно… Поужинать в пятницу в восемь? А где? – Вильнер быстро накрыл рукой отводную трубку, чтобы приглушить свое тяжелое дыхание. – Да-да, я страшно люблю это место, – сказал он. – Там очень приятно. В смокинге. Кто там будет?.. Нет, а женщины? Наша милая Марта, естественно, а потом… принцесса Торреджиано, так, прекрасно… Инесс Сандоваль, поэтесса, да… – Вильнер записывал имена на листочке. Ну что же, дорогой друг, решено – в пятницу в восемь, разумеется, – подытожил Вильнер и повесил трубку.
«Малышка Сандоваль, да-да, – подумал он, – с ней я никогда не спал». Он открыл деревянный ящичек с картотекой, порылся в карточках и достал одну на букву «С».
«12 декабря 1908 г. Ужин у герцогини де Живерни. Малышка Сандоваль, двадцать лет, только что вышла замуж за Жюля Сандоваля. Хорошенькая, умненькая брюнеточка. Была в платье цвета морской волны и колье из дымчатых топазов. Сказал, чтобы она не надевала серег, потому что уши должны быть голые…»
На карточке значилась еще отметка, сделанная в 1913 году, и другая, более свежими чернилами, датированная 1924 годом. Старый обольститель собрал, таким образом, в деревянном ящичке записи о почти восьмистах женщинах, которые были или не были его любовницами; записи за пятьдесят лет парижской и европейской жизни.
Прежде чем отправиться куда-либо на ужин – всегда подробно справившись о всех участниках, – он залезал в картотеку. В пятницу в восемь, после кофе, он затащит Инесс Сандоваль в уголок и обрушит на поэтессу псевдофантастический поток своих воспоминаний.
«В первый раз мы с вами встретились, – скажет он, – у добрейшей Сесиль де Живерни… Конечно, с тех пор, моя дорогая, прошло ровным счетом двадцать лет. На вас было платье цвета морской волны, блестящее, словно листья водорослей… конечно, я помню! Как же я бы мог забыть… И ваши ушки меня глубоко взволновали. А потом вы были так добры, сняв на мгновение ваши восхитительные драгоценности, чтобы показать мне драгоценности еще более восхитительные…»
Немногие женщины могли устоять, опьяненные такой честью. Для очистки совести Вильнер порылся в карточках на букву «Д». Нашел пометки о многих умерших. Но ничего о Сильвене.
«Вот, вот что значит презирать девушек, не имеющих герцогской короны», – подумал он, разозлившись на самого себя и возвращаясь к столу.
Остатки ужина были убраны, столик для бриджа сложен, слуга исчез в глубинах храма. Только шуршание проезжавшей по улице машины время от времени напоминало Сильвене о существовании других людей.
– Ты нужна мне, малышка, – неожиданно патетически объявил Вильнер, взяв ее за руку. – Ты поможешь мне уничтожить самого себя.
Звуки его глухого голоса опутывали пленницу, словно канатами, – то рассказами о том, как он счастлив, то описанием отчаяния, то жалобами на слишком громкую славу, то жалобами на свою гениальность, обрекающую его на вечное одиночество. Он пустил в ход все приманки, дабы создать у себя самого иллюзию, что перед ним нелегкая добыча.
«И потом, им всегда приятно, когда делаешь вид, что изо всех сил стараешься их завоевать», – думал он.
– Но перед смертью, – заключил он несколькими мгновениями позже, – я всех их удивлю. Я опишу Моисея, чего не мог сделать пустобрех Шатобриан. И это станет единственным моим действительно автобиографическим произведением.
Говорить о себе было для него способом обольщения. Притом он не боялся ни впасть в преувеличение, ни выглядеть смешным. Он также не пренебрегал возможностью показать различные грани своего характера и неисчерпаемые ресурсы ума тому, кого он искренне презирал и кто, без сомнения, не способен был оценить и половины его слов. Он рисовал свой образ ради собственного удовольствия, и Сильвена была непременным зрителем тысячного спектакля.
«Еще одна когда-нибудь вспомнит и скажет, что видела Вильнера без маски, способствуя тем самым распространению выдуманной мною легенды».
Сильвена действительно не могла устоять перед магической жизненной силой, исходившей от этого человека, который с приближением ночи казался все громаднее и тяжелее.
Случались мгновения, когда, глядя на Вильнера, уже нельзя было понять, напоминает ли он те доисторические существа, в которых природа пыталась воплотить полулюдей-полузверей, чьи прообразы сохранились в ветхозаветных сказаниях, или же он являет собою некий эксперимент, новый, не завершенный еще вид, стоящий на полпути между человеком и божеством.
Сильвена полностью забыла о надеждах, возлагаемых ею на этот вечер. Она всецело подпала под власть сокрушительной личности Вильнера.
«Он будет делать со мной все, что захочет, – подумала она. – Но способен ли он еще на что-нибудь? Да и хочет ли? А может, все это сплошной блеф?»
Отчасти из любопытства, отчасти из желания прийти в себя она поднялась со словами:
– Поздно уже, мне пора.
Подлинная тоска отразилась на лице Вильнера. Он схватил Сильвену за запястья.
– Нет-нет, ты не можешь уйти прямо сейчас, – заговорил он. – Мы только начали друг друга понимать. Ты ведь тоже несчастлива… я же знаю, я вижу… поверь мне, сейчас, вот сейчас. Нельзя прерывать ритм. – Голос Вильнера зазвучал глуше, в нем появились и требовательные, и молящие нотки. – Со мной ты испытаешь неслыханные вещи, – снова начал он, – в прошлый раз ты была еще слишком юна и не могла осознать, с кем ты занимаешься любовью. Но ты не сможешь сказать, что была счастлива, покуда не узнаешь, что значит моя любовь.
Когда кто-то пересказывал подобные слова Вильнера, все хохотали над ними. Но та, кому все это выплескивалось в лицо, притом глубоко за полночь, не могла совладать с собой – пусть завтра она будет смеяться вместе со всеми, – не могла не испытывать в этот миг надежды или ужаса.
– И я сделаю из тебя великую актрису, – прошептал он.
«Надеюсь, эта дурочка не уйдет не солоно хлебавши, – одновременно думал он. – Слишком я для нее старался, идиот, с ней надо было действовать в открытую».
Он знал, что, если она уйдет, он возненавидит ее, знал, что почувствует себя униженным, смешным после своего бесплатного спектакля, а главное, знал, что половину ночи проведет, щупая пульс, упрекая себя, что слишком много пил, много говорил, слишком был оживлен. Он будет прислушиваться, как бьется в груди сердце, то и дело беспокойно выверять его ритм, на который таинственным образом влияют не подвластные ему нервы, оставляя этот хрупкий орган беззащитным перед любой отравой, любым шоком или просто грузом лет. Какие неведомые силы управляют движением сердечной мышцы? В какой момент угасание этих сил порождает внезапную его остановку?
Если бы «эта дурочка» так и продолжала упрямо топтаться у двери, потряхивая своими прекрасными рыжими кудрями и повторяя: «Нет, прошу вас, Эдуард… правда», Вильнер бы знал, что до рассвета обречен прислушиваться к биению сердца у себя в груди.
Преследуемый мыслью о бренности телесной оболочки, удрученный ее хрупкостью, подавленный неотступным ощущением своего громадного тела – этого сложного соединения старых клеток, клейких, по-разному окрашенных жидкостей, медленно, но неотвратимо разрушающихся тканей, он не найдет другой возможности прогнать бессонницу и страхи, как восстанавливать в памяти год за годом список своих любовниц, добавив к нему в 1922 году Сильвену… И когда первые лучи света пробьются сквозь щели в ставнях, наконец последнее снотворное, принятое слишком поздно, окажет свое воздействие на таинственный орган…
Вильнер взглянул на часы. Предстояло пережить шесть долгих часов, прежде чем небо посереет перед рассветом.
– Ты не откажешь в этом старику, – взмолился он, встав на колени и используя последний аргумент.
Но Сильвена, которую он за руку провел обратно через всю комнату, уже сидела на краю кровати.
Он потребовал, чтобы она раздевалась медленнее, и, думая, что обучает ее нескончаемой прелюдии, то и дело губами проходился по всему телу молодой актрисы. Теперь он был благодарен ей за то волнение, какое она заставила его испытать, делая вид, что отказывается. Прекрасно: она сыграла роль и дала ему возможность смотреть на нее по-хозяйски, щупать, как захваченную дичь.
Сильвена, опрокинутая на шкуры, задыхалась под тяжестью Вильнера, а аптечные запахи с ночного столика били ей в нос.
Она была достаточно опытна, чтобы изобразить сладострастие, она была достаточно рациональна, чтобы испытать его на самом деле, оттого только, что «знала, с кем спит».
А в это время старый минотавр, чувствуя, как стонет под ним тело, которым он наслаждался с точным расчетом, неторопливо, чтобы не тратить себя во второй раз, беспрестанно размышлял. Мысль его вознеслась в холодные высоты, где Сильвена имела не большее значение, чем насекомое под подошвой башмака, пытаясь разрешить все ту же вечную проблему.
«Почему, ну почему обычный акт любви успокаивает душевную тревогу?» – думал он.
Накануне дня святого Убера, то есть 2 ноября, в праздник Успения, маркиз де Ла Моннери велел позвать к себе после обеда чету Лавердюр.
Леонтина Лавердюр – прозвище доезжачего распространялось и на его жену и на троих сыновей, так что все практически забыли их настоящую фамилию – Буйо, – Леонтина Лавердюр была маленькой крикливой чернявой женщиной, часто-часто моргавшей и по привычке по каждому поводу бранившей мужа. Следует заметить, что точно так же бранила она в своих молитвах всех святых и самого Господа Бога.
– Итак, Лавердюр, завтра вы намерены взять вашего двухтысячного оленя? – спросил маркиз.
– Надеемся, господин маркиз, надеемся, – ответил доезжачий. – Упустить оленя на Уберов день – это уж совсем обидно. Такое всего-то раз и случилось за все тридцать девять лет, что я в команде, да и то собаки тогда еще были неопытны… Да-а, двухтысячный – это уже не шутка…
Лавердюр покачал головой и позволил себе расчувствоваться – на него нахлынули воспоминания о пробежавших годах. Ведь он отдавался любимому делу, жил в согласии с природой, с лесом, занимал в своем мире место, принадлежавшее ему по праву. Как знал он и то, что от Артуа до Гийенны и от Пуату до Морвана важные господа говорили: «Лавердюр из команды Моглева? Первый доезжачий Франции». Он ездил на прекрасных лошадях, гордо прогуливался по деревне в своей светло-желтой ливрее, брал оленей в присутствии принцев и королевских высочеств. У него был лучший и самый уважаемый хозяин; он прожил жизнь с замечательной женщиной, чьи крики создавали вокруг него ежедневную музыку восхищения и любви; они народили троих сыновей – все как один недюжинного здоровья, занимают достойное положение, а один уже стал отцом.
«Ведь я, в сущности, счастливый человек», – подумал он.
И смысл всей этой жизни воплощал в себе двухтысячный олень, о котором он так часто говорил и многие недели думал как о неком венце, апофеозе своего существования… «Двигаемся потихоньку, господин маркиз, уже тысяча девятьсот восемьдесят восьмой». Или: «Гляди, Леонтина, больше шести, в эту-то пору…»
И вот наступил канун великого дня.
Тот факт, что превратности охоты, затянувшиеся морозы, преждевременное или запоздалое наступление весеннего тепла, хитрость преследуемых животных, большее или меньшее усердие собак, все непредвиденные, непредсказуемые вещи привели к тому, что эта охота совпала с Уберовым днем, – казался Лавердюру знамением судьбы.
К тому же он знал, что служить ему осталось недолго.
«Ну, возьму я еще сто, сто пятьдесят, и потом еще смогу прислуживать, если господин маркиз или госпожа графиня захотят меня оставить, но выполнять как следует работу доезжачего я не смогу – слишком буду стар… Мне сейчас-то шестьдесят три года».
– Так вот, Лавердюр, – сказал маркиз, проведя рукой по белым усам, – я позвал вас вместе с женой, потому что хочу по этому случаю сделать вам подарок.
«Неужто Флоран ему сказал, что я мечтаю о стиральной машине, – подумала Леонтина. – Или, может, он даст нам денег. Тогда, конечно, мы машины не купим, а лучше отложим их».
– Вы ведь не из этих краев, – продолжал слепец. – Приближается ваша старость, и я не хочу, чтобы вас тревожили мысли о последнем приюте. Поэтому я решил подарить вам место на кладбище.
Сильнейшее волнение исказило лицо Лавердюра, окрасило щеки, а веки Леонтины стали учащенно подрагивать.
– Ах, господин маркиз! – воскликнул доезжачий. – Нет, в самом деле вы к нам добры! Ничто нам не могло доставить большего счастья.
– Ну что ж, тогда выбирайте место, – сказал маркиз.
– Тут уж ты выбирай, Леонтина, – сказал Лавердюр, будто речь шла об обзаведении хозяйством.
– Ну, это-то уж где захочет господин маркиз, – отозвалась своим пронзительным голосом, который не приглушили даже еле сдерживаемые рыдания, Леонтина Лавердюр, вытирая глаза кончиком фартука. – Он и так слишком добр! Только вот, если можно, какое-нибудь местечко, где бы ноги были на солнце.
Слепец кашлянул, прочищая горло.
– На завтра все готово? – спросил он.
– Да, господин маркиз, как обычно, – ответил Лавердюр. – Госпожа графиня сама украшает церковь, вместе с господином графом.
– Кого из собак вы намерены взять в свору?
– А я вот как раз и хотел поговорить об этом с господином маркизом. Можно взять Аннибаля – он лучше всех, и его можно бы дать Жолибуа. А что до меня, если господин маркиз не возражает, я бы взял Валянсея. Конечно, посмотреть на него – он своры не украсит, да и не берут обычно старых собак. Но господин маркиз знает: таких, как он, и троих за всю жизнь не увидишь. Кто в охоте знает толк, те-то поймут. В двенадцать лет это же прямо чудо какое-то. Это его последний сезон, да и то до конца не дотянет. Мочится он плохо – то ли уремия у него, то ли еще что в этом роде… И в такой день несправедливо было бы его забыть.
– Ну что же, Лавердюр, берите Валянсея… Мой младший брат тоже… – проговорил маркиз, чуть обмякнув в кресле.
Притупленность сознания, лень или угасание организма все чаще в минуты усталости вызывали у Урбена де Ла Моннери странные ассоциации, которые он не считал нужным разъяснять.
Чета Лавердюров, видя, что маркиз утомился, тихонько вышла и направилась за своими сабо, оставленными на пороге кухни.
Пока они шли от замка к своему домику, расположенному рядом с псарней, Леонтина, как всегда плаксиво, заметила:
– Вот видишь, папочка (она взяла от детей привычку называть так своего мужа), вот видишь, папочка, будет у нас с тобой все же навечно место на земле.
Лавердюр размышлял.
– А связано это со словом «уремия», – неожиданно проговорил он. – Оно ему напомнило брата, генерала, который умер от такой же болезни. И ведь есть же люди, которые говорят, будто господин маркиз ничего уже не помнит.
Своды нависали низко и сумрачно, стрельчатые пролеты витражей удерживали свет в тисках свинцовых переплетов. Гигантские жестокие сцены охоты на оленей чередовались на стенах с изображением остановок на Крестном пути и обрамлялись гирляндами остролиста. Из переплетения непокорных листьев возникала то рука предаваемой мукам Жанны д’Арк, то гипсовая голова кюре из Арса, то ореол святой Терезы. В пляшущем свете свечей удлиненные отростки рогов, словно украшавшие еще головы невидимых оленей, казалось, двигались среди кустов. Да и вся церковь будто стояла прямо в лесу.
В ней царил запах глубокой осени, тумана, ладана и мехов.
Неф был заполнен плотной толпой, и опоздавшие с трудом отворяли дверь, чтобы протиснуться в задние ряды приглашенных. Ни на Пасху, ни на Рождество, ни на какой другой официальный праздник кюре из небольшой деревушки Шанту-Моглев не мог похвастаться подобным скоплением людей, притом избранных. Сюда съехалось все высшее и мелкое дворянство провинции: и лица давно известные, и юное поколение, готовое к заключению брачных союзов, – триста человек, чьи предки создавали историю Франции и чьи имена напоминали о далеких битвах, знаменитых полотнах, о предателях-коннетаблях, дуэлях, договорах, королевских адюльтерах. Среди представителей местной аристократии можно было узнать нескольких породнившихся с ними крупных торговцев лесом и зерном, двух-трех парижских банкиров, известного нотариуса с благородным лицом, державшего в своей конторе свидетельства обогащения или медленного разорения почти всех присутствующих, смотрителей «Памятников истории и природы».
Перед ступенями алтаря двое доезжачих в высоких сапогах с раструбами крепко стояли, чуть расставив ноги, и каждый держал на поводке большую собаку из охотничьей своры.
Старик Валянсей с вылинявшей шерстью, выпирающими ребрами, сгорбившийся, будто под тяжестью большого желто-черного банта, то и дело оседал на задние лапы и каждые три минуты ронял на каменные плиты несколько капель кровавой мочи.
Кюре нервничал: пес заботил его больше, чем ход всей мессы, ибо он опасался, как бы дети, поющие в хоре, не расхохотались, глядя на него.
«Мальчишки ведь такие глупые… Правда, и взрослые немногим умнее – додумались привести собаку, которая писает в церкви…»
Группа трубачей в красных одеждах, специально вызванных из Буржа, стояла около закрытой фисгармонии.
По обе стороны клироса, на скамьях, отведенных обычно для священнослужителей, сидели слуги: мужчины – слева, женщины – справа. В камзолах, за цвет которых команду Моглева прозвали солнечной, с вышитой посередине груди полоской выпуклых дубовых листьев, слуги походили на тех донаторов[14], чьи изображения помещали в нижних углах старых витражей.
Два брата капуцина, пришедшие проповедовать уход от мира, были оттиснуты к стене: над окладистыми бородами поблескивали от любопытства и восхищения глаза; монахи то и дело перешептывались, глядя по сторонам.
На первом сиденье слева, чуть возвышавшемся и огороженном, подобно кафедре, неподвижно восседал маркиз де Ла Моннери; веки его наполовину прикрывали затянутые белой пленкой глаза, затылок с ежиком волос упирался в деревянную спинку. Рядом с ним – удостоенный этой чести, потому что представлял во Франции усопшего герцога Орлеанского, претендента на трон, – тучный виконт де Дуэ-Души, старик с толстыми бледными щеками, с головой, созданной для брыжей, сидел в полудреме, поглаживая козлиную бородку сюзерена. Дальше расположился красавец Габриэль Де Воос, который с места, занимаемого простым гостем, каким он был в прошлом году, перебрался на привилегированное место племянника и предводителя команды Моглева; а затем плотной чередой следовали псовые охотники, длинноносые, с костистыми руками, плотными затылками и насупленными бровями; среди них выделялись круглая голова майора Жилона и кирпичная, ни на кого не похожая голова огромного голландского барона, который ничего не смыслил в охоте и с десяти часов утра напивался виски.
На женской стороне виднелись треуголки, украшенные короткими перьями и золотыми галунами, приколотые и к подсиненным волосам графини де Ла Моннери, и к будто присыпанным пеплом волосам Жаклин, и к черным волосам ее кузины Изабеллы, и к тусклым волосам, обрамляющим серые лица без косметики владелиц окрестных замков, утомленных слишком частыми родами, и длинное лицо мадемуазель де Лонгбуаль, пятидесятилетней девственницы с осанкой амазонки и большими, как у мужчины, руками.
Габриэль был мрачен. Он чувствовал себя стесненно в новой одежде, резко выделявшейся среди поношенных курток, омытых зимними снегами и мартовскими дождями, выцветших от солнца, запятнанных соками, изъеденных лошадиным потом, – в каких были все его соседи.
К тому же госпожа де Ла Моннери не нашла ничего лучшего, как утром сказать Жаклин в его присутствии:
– До чего же он в этом костюме похож на Франсуа, просто трудно поверить. Надо заметить, что у твоего первого мужа было такое же пристрастие к подобным маскарадам.
Сама она ненавидела охоту и приезжала только раз в году на Уберов день – так государыня подчиняется иным придворным обязанностям.
С самого начала церемонии Габриэль не спускал глаз с жены, словно ревнивец, неотступно следящий за кокеткой, в надежде перехватить взгляды, которыми она обменивается с кем-то издалека.
«Быть не может, чтобы она не вспоминала сейчас о нем, – думал Габриэль. – Я сижу здесь, на том же месте: она смотрит на меня, а видится ей вместо меня он».
Церковь, любая церковь, всегда была для него ненавистным местом – и когда ему приходилось ходить туда вместе с Жаклин, и когда она шла туда одна. Ибо он знал, был совершенно в том уверен, что она погружается там в воспоминания о покойном и ведет с ним всякий раз таинственные беседы.
Когда Жаклин попросила Габриэля, сразу по их возвращении из Италии, спать в разных спальнях, она имела глупость сказать правду:
– Когда вы спите рядом, я не могу как следует молиться.
Смысл этой фразы он понял без труда: «Ваше присутствие стесняет меня, когда я хочу помолиться за Франсуа». Поэтому любая молитвенная сосредоточенность, любая благоговейная пауза портила ему настроение.
Позже Габриэлю становилось стыдно, но это ничего не меняло.
Он увидел, как первый доезжачий почтительно подошел к Жаклин и что-то шепнул ей, и она сделала знак детям, находившимся недалеко от клироса.
Мари-Анж и Жан-Ноэль приблизились, держась за руки, чтобы подбадривать друг друга, и стараясь скрупулезно исполнить все данные им указания. Мари-Анж была чуть выше брата. Жан-Ноэль очень гордился тем, что мог надеть штаны для верховой езды. Дети преклонили колена до земли, проходя мимо алтаря, и прошли к скамье, где сидели мужчины.
– Дэдди, я хочу попросить вашу шляпу для пожертвований, – сказала Мари-Анж Габриэлю, в то время как Жан-Ноэль обратился с той же просьбой к майору Жилону.
– Бери, бери, – ответил Габриэль, неласково взглянув на нее.
Какое-то мгновение дети заколебались, не зная, по какой стороне идти, затем самой природой подсказанная хитрость заставила Жан-Ноэля направиться в сторону дам, а Мари-Анж остаться возле мужчин.
Они продвигались медленно, собирая купюры и стараясь не отставать друг от друга. Их красота, юность и даже их застенчивость казались столь трогательными в этом собрании, где старость и уродство держали неоспоримое первенство, что все взгляды, все мысли завертелись вокруг них, и механически повторяемые молитвы застыли на ханжеских губах, и равнодушные перестали считать – стремясь развеять скуку – отростки на рогах в сценах охоты; и тишина церкви, прерываемая лишь скрипом стула, покашливанием или напевным бормотанием священника, стала вдруг более напряженной.
А Габриэля все это время мучил вопрос: где были зачаты Жан-Ноэль и Мари-Анж – на кровати в особняке на авеню Мессины или же здесь, в Моглеве?
Причетчик позвонил в колокольчик, давая сигнал к окончанию службы. Тогда присутствующие, будто донаторы, сошедшие с витражей, упали на колени: мужчины под стук сапог, рукояток хлыста и охотничьих ножей; женщины – одинаково уткнувшись лбом в ладони.
Трубачи в красных одеждах, стоявшие у фисгармонии, вскинули над головой свои двенадцать труб и приблизили к губам двенадцать мундштуков. Вся церковь до самых сводов завибрировала от звуков, несущихся сквозь кольца меди, – они выплескивались в воздух, словно пузырьки кипящей воды, вздымались над свечами и руками статуй, сплетались с гирляндами и оленьими рогами и в конце концов разрывались в ушах толпы.
Щеки трубачей надулись и покраснели, словно у ангелов на Страшном суде.
«Давай молись за него, – подумал Габриэль. – Испрашивай у Бога прощения за самоубийство, и пусть Он соединит вас навечно. Ты ведь только об этом и мечтаешь… А я исполняю роль статиста на земле и к тому же должен молчать, поскольку мне оплачивают мои костюмы…»
Жан-Ноэль, встав на колени там, где он в тот момент находился, то есть посреди центрального прохода, и прижав к груди полную банкнот шляпу, молился.
«Господи, – шептал он, – упокой папину душу – его отнял у нас несчастный случай… И еще упокой души Нюнжессера и Коли».
Ибо в то время как во Франции существовало еще триста команд псовой охоты и старый слепой феодал по-прежнему пестовал своих собак, лошадей, гостей и слуг, человек, впервые совершив перелет на аэроплане, покорил Атлантику. И в последний год Жан-Ноэль всегда поминал в своих молитвах несчастных предшественников Линдберга.
«И потом, Господи, – продолжал он, – сделай так, чтобы когда-нибудь и я, как дядя Урбен, стал предводителем команды. Впрочем, все равно ведь так оно и будет, раз мама является его наследницей, а я – ее. Господи, сделай так, чтобы все досталось мне».
В то же время Леонтина Лавердюр довольствовалась малым:
«Господи, помоги моему Лавердюру взять сегодня двухтысячного оленя. Ведь ежели он этого оленя упустит, заболеет он, я точно говорю… А он не заслуживает такой участи, не заслуживает!»
Головы поднялись. Жан-Ноэль и Мари-Анж закончили сбор пожертвований и вернулись в ризницу.
Маленький беззубый старикан с идиотским смехом протянул им остатки освященного хлеба.
– Раз уж ваше семейство наделяет им всех, справедливо будет, чтобы он к вам и вернулся, – сказал ризничий, пока дети посреди висящих стихирей, риз и кадил жевали кусочки хлеба.
Месса подходила к концу. И будто донаторы сошли с витража и направились к выходу с медлительностью и достоинством королевской семьи, выходящей с «Те Deum»[15].
Слепец шел впереди, и все присутствующие с уважением наблюдали за ним. В одной руке он, помогая себе, держал толстую трость, а другой легонько опирался на локоть племянницы.
Из запоздалого кокетства, какое позволяло маркизу звание предводителя команды, он пожелал надеть в этот день – единственный среди мужчин – большую треуголку и стал более чем когда бы то ни было – со своими колесообразными ляжками, сморщенными на щиколотках сапогами, одеждой в стиле Людовика XV – походить на предков, чьи кости покоились под известняковыми плитами, которые Валянсей отметил красноватой лужей.
Все собрались на деревенской площади, заставленной торпедо, лимузинами, английскими двуколками и вместительными бричками. Утро было освещено неярким ноябрьским солнцем, легкий холодный ветерок стелился по земле – «просушиватель», как говорили длинноносые мелкопоместные дворяне. Среди людей, находившихся там, многие встречались лишь раз в году и приезжали только из удовольствия собраться вместе, из удовольствия увидеть других и показать себя. Все занялись пустыми разговорами, принялись обмениваться ничего не значащими фразами, приличествующими случаю любезностями, стали предаваться воспоминаниям.
Де Вооса представляли множеству людей, чьи имена он никогда не смог бы соотнести с их лицами. Его внимательно разглядывали, изучали, и он чувствовал, как ему вслед летит едкое злословие. В тот день он был в центре внимания как «новый муж малышки де Ла Моннери». Старики и старухи со слезящимися глазами, объявлявшие себя дальними родственниками Жаклин, подходили пожать ему руку со словами:
– Мы так за нее рады!
Он был красив, элегантен, в расцвете лет, обольстителен, желанен и у всех вызывал зависть. Брак его казался очень удачным. В глазах молодежи Де Воос был воплощением мечты, у людей постарше он вызывал сожаление о прошлом. И никто не подозревал о его горе.
Урбен де Ла Моннери, по-прежнему в сопровождении Жаклин, медленно переходил от группы к группе и время от времени, зацепив кого-нибудь рукояткой трости, спрашивал:
– Кто это?
Старая худая дама, обтянутая серым пальто, как ветка корой, подошла к слепцу.
– Урбен, – сказала она, – я – Одиль.
Голос ее звучал мягко, мелодично, а лицо было испещрено вертикальными морщинами.
– Наконец-то… вот и вы! Я ждал вас до начала мессы, – тоном упрека проговорил маркиз.
– У господина Сежарри, который любезно согласился довезти меня, сломался автомобиль, – объяснила она.
Легкое дрожание рук предводителя команды внезапно усилилось, и это стало тем заметнее, что у старой дамы, которую звали госпожа де Бондюмон, тоже появилась дрожь, только дрожь вертикальная: все ее тело – с головы до ног – безостановочно затряслось в том же направлении, как и трещинки морщин.
Жаклин деликатно высвободила руку дяди; люди, находившиеся рядом, инстинктивно отступили на несколько шагов, и мелкопоместные дворяне невольно образовали круг, глядя почти с восхищением на двух трясущихся, каждый по-своему, стариков – один из них был уже совсем слеп, – которые обменивались ничего не значащими словами, стоя друг против друга и переживая конец своей долгой и сдерживаемой рамками приличий любви.
Замок Моглев был построен на естественной террасе, возвышавшейся над деревней. С той стороны, где стояли угловые сторожевые башни и башни боковые, он представлял собой огромное мрачное средневековое сооружение с серыми неприступными стенами, на которых виднелись узкие прорези окон и низких дверей. Лужайки с растущими на них редкими раскидистыми вязами, нижние ветви которых не достигали и до половины склона, располагавшегося между замком и шиферными крышами деревенских домов, не слишком оживляли вид этой крепости.
Но стоило обойти замок, и взору неожиданно открывался великолепный западный фасад – знаменитый фасад, которого коснулся гений Ренессанса и который делал Моглев не только одним из самых больших, но и самым прекрасным замком края.
На западном фасаде не оставалось ничего, что не было бы украшено лепниной или какой-либо другой отделкой, – не оставалось угла, где бы не красовалась колонна, где не вились бы ветви аканта, плюща или винограда. Почти живое сплетение узких окон, ажурные лестницы, где ступени хранили память о злодеяниях, лоджии, галереи, обрамленные гербами, печные трубы, вздымающиеся в небо.
Всякого, кто приезжает в Моглев, поражает невероятный контраст между тяжелой массой заднего фасада, несущего феодальный, воинственный, мрачный дух средневековья, и праздником искусства и роскоши другой стороны замка.
Просторный парадный двор, посыпанный золотистым песком, с часовней чуть поодаль выгодно подчеркивал вдохновенную монументальность знаменитого фасада.
Парк в английском стиле, разбитый в XVIII веке, начинался сразу, открывая взгляду тщательно продуманную вольную композицию, составленную из различных пород деревьев, красиво раскинувшихся на бескрайнем газоне, и уходил вдаль, сливаясь с опушкой леса.
Пруд, расположенный чуть ниже, задерживал в своих гладких зеленоватых водах, между остриями камыша, отражение облаков.
Построенные в каре на желтом песке парадного двора лошади, собаки и их хозяева получили благословение кюре.
Псари с помощью плеток заставляли собак стоять спокойно. Лошади с недавно остриженными колющимися гривами нервничали под толстыми нарядными попонами с вышитыми в углу короной или монограммой.
– Итак, докладывайте, Лавердюр! – крикнул маркиз.
Лавердюр в сопровождении второго доезжачего и двух лесничих подошел и, держа шапку в руке, встал перед слепцом по стойке «смирно».
– Господин маркиз, – произнес Лавердюр, – по моему мнению, в лесу Мальвуа есть олень, судя по рогам, лет четырех. Но я думаю, сегодня там есть и кое-что получше, – с достоинством добавил он.
Жолибуа, второй доезжачий, худой длинный малый, одно плечо у которого было выше другого и черная прядь волос падала на лицо, загнал «в карман» шестигодовалого оленя.
– Он воротился по большой просеке, – объяснял второй доезжачий, – после вышел на Рон-дю-Сеньер, потом воротился обратно за левое ограждение, а там передохнул. А после уж ищейка моя и замолчала.
– Он один или в стаде?
– Один, господин маркиз.
Маркиз расспросил лесничих. У первого был на примете годовалый олень в стороне Бор-Дье.
Наконец папаша Плантероз, маленький невзрачный старикашка со слезящимися глазками, служивший в Моглеве вот уже шестьдесят лет, прошамкал беззубым ртом:
– А я тут приметил свинью на дороге в Фоны. И подумал, что, ежели вдруг оленя не выследим, и она может пригодиться…
Дорога в Фоны проходила рядом с домишком, где он жил, а старик лесничий с трудом уже мог ходить куда-то дальше.
– Спасибо, Плантероз, очень хорошо, – милостиво проговорил маркиз.
Какое-то мгновение он размышлял. Лавердюр, слегка раздосадованный, что в своем докладе он не мог назвать подходящего оленя, ожидал решения предводителя команды, смутно надеясь, что маркиз позволит ему в виде исключения – коль скоро речь идет о его двухтысячном олене – вести охоту на животное, которое он выследил сам.
– Итак, господа, что вы обо всем этом думаете? – из вежливости спросил маркиз, обращаясь к тучному виконту, Жилону и Де Воосу, стоявшим рядом с ним. Затем, не дожидаясь от них ответа, сказал: – Вы запаслись навозом, Жолибуа?
Второй доезжачий вынул из кармана штанов горсть маленьких черных шариков и протянул на ладони маркизу, чтобы тот мог их пощупать. Жилон, склонившись, надел очки.
– Итак, Лавердюр, – решил маркиз, – вы отправитесь стучать по заметине Жолибуа.
– Извольте, господин маркиз.
– И сразу пускайте собак… Притом не ради эффекта, а потому, что уже поздно и вы потеряете слишком много времени, если будете удерживать тех, кто впереди вас.
– Слушаюсь, господин маркиз.
«И я на его месте решил бы точно так же, – одновременно думал он. – Между четырехгодовалым и шестигодовалым и выбирать нечего, а особенно в Уберов день. Да и потом, ведь это же я отправил Жолибуа в Рон-дю-Сеньер, – вспомнил он, утешая себя. – Он работает у меня в подчинении. А значит, это все равно, что я сам загнал бы оленя “в карман”».
– Жюльен! – позвал маркиз.
Старый кучер замка Моглев приблизился к нему: он держал под уздцы двадцатилетнюю кобылу с усталыми ногами и глубоко запавшими от возраста грустными глазами.
– Господин маркиз? – отозвался кучер, снимая цилиндр.
У него был едва заметный английский акцент, перенятый полвека назад у тренера в Мэзон-Лаффите.
– Я сегодня не поеду, – сказал слепец, повторяя фразу, произносимую им последние четыре года всякий раз в день охоты.
– Может ли господин Жан-Ноэль ненадолго сесть на Эжери?
– Да… да! – скрепя сердце разрешил маркиз. – Но пусть едет очень медленно, а ты все время будь рядом.
Затем, не добавив больше ни слова, он внезапно двинулся с места и, зная, что на него все смотрят, направился один, неожиданно твердой походкой, ко входу в замок, где его ждал Флоран.
В сопровождении дворецкого старый феодал исчез, поглощенный величественным фасадом, за которым он спрячет свою старость, слепоту и тоску.
Оленя выкурили сразу, «одним махом», как говорили доезжачие. Послышались сигналы: «Видим» и «Королевский», обозначающие, что охота ведется и в самом деле на большого шестигодовалого зверя.
Олень промчался по трем просекам подряд на небольшом расстоянии от всадников, экипажей и машин, и почти все получали удовлетворение, видя, как он летел в двух метрах над землей, вытянув передние ноги, раздув ноздри и запрокинув назад свои великолепные рога.
Шестьдесят собак с воем неслись в нескольких метрах за ним; пробегая по просекам, они напоминали крапчатый, волнистый ковер.
Затем появился Лавердюр: перемахивая через просеки, перепрыгивая ямы, глубоко вдев ноги в стремена, он на полном скаку вытрясал из трубы слюну. Лицо его залила краска, щеки ввалились – на первой же лесосеке, не слезая с лошади, он тихонько выплюнул в носовой платок челюсть, мешавшую ему трубить.
Дети, визжа от радости, взбирались на откосы. Полуденное солнце бледно-золотым гребнем прочесывало деревья.
Всадников было около пятидесяти. Лошади случайных гостей, непривычные к трубе, к хлысту, к сутолоке, неожиданно вставали на дыбы, лягали соседей и при малейшем напряжении вожжей срывались, точно камни, выпущенные из пращи.
Длинноносые мелкопоместные дворяне в светло-желтом платье наблюдали за этим зрелищем с презрением и отвращением.
– Каждый раз на Уберов день одно и то же, – бубнили они. – Вы только поглядите на этот цирк!
Милейший Жилон, с трудом разместив свой широкий зад в седле, сидя на невысокой лохматой кобыле, насупил брови и, лишь только начался гон, принял пренебрежительно-раздраженный вид бывалого охотника.
– Ах, господа! Я страшно боюсь, когда ко мне приближаются слишком близко! – кричал он молодым людям, ехавшим рысью позади него.
И коль скоро обычай запрещал гостям обгонять членов команды, молодым людям приходилось останавливаться или поворачивать на другую просеку.
А сам Де Воос, высокомерный, властный, озабоченный тем, чтобы как можно скорее утвердиться в своей новой роли, обращался, не утруждая себя любезным обхождением, к автомобилистам с высоты седла своего Командора – крупного чистокровного рыжего скакуна:
– Господа, вы оказали бы нам услугу, если бы заглушили моторы. Мы охотимся!
– Вы совершенно правы: они невыносимы, – поддержала его мадемуазель де Лонгбуаль, фанатично увлекавшаяся охотой и трубившая в рог не хуже мужчины.
К ним присоединился даже Лавердюр; охваченный страстью настигнуть своего двухтысячного оленя, он позволил себе, стащив шапку, отругать «этих господ», загородивших все просеки и способных, того и гляди, перерезать путь собакам перед самым их носом.
Никто и не подумал бы, глядя на зловещий, сосредоточенный, напряженный вид охотников, что они получают удовольствие, а не выполняют какую-то важную миссию, провал которой может навлечь на них гнев короля.
Вскоре олень сбавил темп, поиграл с собаками, пробежав перед ними, на короткое время ушел в заросли, надеясь найти стадо, затем вернулся к тому месту, где началась охота и где длинноносые мелкопоместные дворяне спокойно ждали его, пока молодежь успела объехать кругом весь лес и теперь, вконец измученная, с трудом держалась на седых от пены лошадях.
Внезапно олень принял решение и выскочил на равнину, выбрав направление, неожиданное для всех. Таким образом он опередил собак минут на десять.
Габриэля на какое-то время оттеснили на узкой болотной тропинке несколько давних членов команды, которые ехали цепочкой позади тучного Мелькиора де Дуэ-Души, выглядевшего на лошади более внушительно, чем сам Эдуард VII. Выйдя уже из возраста, когда они могли участвовать в бешеных скачках, старики больше доверяли знанию местных краев и охотничьему инстинкту, что всегда помогут им не спеша добраться до первой же лужайки, где собаки допустят оплошность.
До последней минуты Жаклин держалась поблизости от Габриэля. Но тут, на миг обернувшись, он не увидел ее. Они только что миновали болото, и Габриэль, опасаясь, как бы Жаклин не оступилась, подождал ее несколько мгновений и даже вернулся немного назад. Затем, обеспокоенный, с неприятным тревожным чувством и ощущением собственной вины, он решился, несмотря ни на что, следовать вперед. Шума охоты уже не было слышно, и рог Лавердюра едва различался вдали.
«Да нет, ерунда, – раздумывал Габриэль, – если бы Жаклин упала, она позвала бы на помощь. Нас же было много. Но может быть, у нее порвалось путлище…»
Проехав еще пару километров, Габриэль увидел на перекрестке Жаклин, которая, замерев, прислушивалась к далеким звукам и жестом попросила его помолчать.
– Впредь сделайте одолжение следовать за мной, понятно? – произнес он раздраженно.
– Но вы же совсем не двигались, – заметила Жаклин.
– Согласитесь, что я не мог опрокинуть громадную тушу Дуэ-Души, чтобы доставить вам удовольствие!
– Вам стоило лишь перепрыгнуть через яму и взять направо, как это сделала я. И помолчите, а то ничего не слышно.
В тоне Жаклин не было ничего обидного: только нетерпение охотника, прислушивающегося к лаю. Но сколь бы ничтожен ни был повод для размолвки, его хватило, чтобы в мозгу Габриэля всплыла его навязчивая идея.
– Плевать мне, что вы не слышите! – крикнул он. – Вы сами мне сказали, что на охоте всегда следовали за вашим первым мужем. И я не понимаю, отчего ваша гордость страдает, когда я прошу вас о том же!
– Ах, вот оно в чем дело! Опять все сначала! – воскликнула Жаклин, гневно сверкнув глазами. – Уверяю вас, если бы даже я забыла, вы заставили бы меня об этом пожалеть. И за Франсуа я ехала потому, что, во-первых, была на десять лет моложе, а кроме того, потому, что он умел охотиться и не пытался изображать из себя важного барина.
Какой-то миг они смотрели в глаза друг другу. У обоих в пылу охоты покраснело лицо, вспотела шея и лоб. Жаклин была без грима, с растрепанной прической, треуголка немного съехала набок – она догадалась об этом по внимательному и злому взгляду Габриэля.
– Ну что же! Охотьтесь как хотите, раз вы такая сильная! – проговорил он. – И в тот день, когда вы разобьете себе физиономию, меня, естественно, не будет рядом, чтобы вам помочь!
Он пустил Командора в галоп, с бессмысленной яростью вонзив ему в бок шпоры. Конь Жаклин собрался было скакать следом, но молодая женщина удержала его на месте, и он загарцевал на каменистой дороге.
«Фельдфебель – вот за кого я вышла замуж, жалкий фельдфебель», – подумала она, жалея, что не сказала ему это минутой раньше, и со сладкой тревогой представляя себе, как она бросит ему эти слова в лицо при первой же ссоре.
Габриэль, спустившись со склона, устремился прямо, куда вела его дорога.
Он сбавил темп и собирался оглядеться, как вдруг у Командора с передней ноги слетела подкова. Это неприятное, но банальное происшествие снова разбудило ярость Габриэля. Теперь ему приходилось возвращаться шагом в надежде, если повезет, встретить один из автомобилей и сесть в него, отдав коня кучеру.
В течение четверти часа Габриэль клялся себе никогда больше не участвовать в псовой охоте, нынче же вечером уехать в Париж, развестись и вновь пойти в армию.
Тут он и встретил, проезжая вдоль пустынного поля, огромного барона ван Хеерена, который, как обычно, отстал от других всадников через пять минут после начала гона и, начав свою охоту за спиртным, продолжал путь уже в поисках трактира. Можно было, впрочем, задаться вопросом, зачем этот господин так настойчиво, словно терпящий крушение танкер, мечется, проделывая по два раза в неделю долгий путь через Салонь, Берри или Сансерруа, тогда как он мог бы найти другой предлог, чтобы удрать от жены и спокойно напиться.
– Мы сейчас поищем деревню, – сказал голландский барон в восторге от того, что счастливый случай послал ему компанию, – и кузнец подкует вам лошадь. А мы пока, возможно, зайдем в кафе.
Барон был проспиртован до такой степени, что ему хватало одной рюмки, чтобы впасть в полнейшую эйфорию. После второй он пускался в идиотские откровения. Более того, в подобных случаях проявления его дружеских чувств становились особенно навязчивыми.
Габриэль чувствовал себя настолько уязвленным, несчастным, полным отвращения к жизни и к самому себе…
Бутылка марка была осушена, и начата вторая, подкованная лошадь давно уже стояла, привязанная к кольцу возле двери, а ван Хеерен, продолжая с достоинством держать отяжелевшую голову, вещал:
– Когда я вернусь, возможно, я пойду спать с горничной. У нее, знаете ли, громадная попа. А моя жена внизу все слышит, но она ничего не посмеет сказать, потому что я двину ей по носу. Моя жена, знаете ли, совсем тощая!
– Да, но это ваша первая жена, – подхватывал Габриэль, ведя параллельный монолог, – а значит… вы – ее первый муж. О нет! Дорогой мой друг, вы не знаете, вы не знаете, что значит быть мужем вдовы!
Ему так хотелось в течение вот уже стольких дней выговориться перед кем-то, кто мог его даже и не слушать.
Вскоре они дружно провозгласили, что мир принадлежит мужчинам и что большая удача, когда два человека, так хорошо понимающих друг друга, наконец встретились.
И только когда они решили трубить в рог посреди трактирного зала, подражая изображениям с дешевых английских гравюр, хозяйка посоветовала им отправиться восвояси.
– Такие хорошие, такие богатые господа, – сказала она, провожая их взглядом, – глядеть больно, до чего они себя доводят!
Ван Хеерен предусмотрительно приказал наполнить большую серебряную флягу, содержимое которой он разделил с товарищем во время пути.
Жаклин почувствовала разом и усталость, и пронзительную свежесть воздуха, и тоскливый свет ноябрьского дня за городом, и оголенные деревья.
Лай, раздавшийся неподалеку, оказалось, доносился лишь с одной из окрестных ферм, что обострило ощущение одиночества. До нее вдруг дошла вся бессмысленность, вся смехотворность преследования – в первой трети XX века – в течение долгих часов убегающего оленя, выслеживания по маленьким раздвоенным следам, отпечатанным на взрыхленной ниве или влажной траве.
«Ну вот, пожалуйста! Габриэль испортил мне все удовольствие – и к тому же из-за него я потеряла охоту. В итоге он успеет к “улюлю”, а я нет! Ничего, он мне за это заплатит».
Жаклин сняла с правой руки перчатку, провела пальцами по пояснице и, почувствовав клейкий пот, ощупала хлыст и слипшуюся шкуру лошади. Из небольшой сумки, притороченной к седлу амазонки, она достала сэндвич и откусила кусок. Затем двинулась дальше, рысью, в том направлении, которое ей казалось верным.
«Почему?» – задумалась Жаклин. Ее возмутила сама мысль о том, чтобы последовать за Габриэлем. Неправда ведь, что он плохой охотник, как она сказала со зла, чтобы оскорбить его, а уж на лошади-то он и вовсе великолепен.
Нет, это снова в память о Франсуа, в стремлении сохранить нетронутым то, что она, сама не понимая побудительных мотивов, свято ограждала от всех. И она признала, что у Габриэля есть известные основания для ревности.
«Ведь разве не ему я скорее изменяю с Франсуа, чем Франсуа с ним?»
Франсуа тоже требовал, чтобы на охоте она следовала за ним; и она ехала позади него счастливая и покорная, чувствуя себя в безопасности, защищенная от превратностей жизни. Ей оставалось лишь идти вброд там, куда шла его лошадь, перепрыгивать через изгороди там, где грудь его лошади пробила брешь. И она видела, как он мчится впереди, чуть приподнявшись в седле, а длинные золотистые фалды его кафтана полощутся на ветру. В лицо ей летели комья грязи из-под копыт его лошади. Он был главой: она следовала за ним, и это было прекрасно.
Она вспоминала и долгие возвращения по ночам, когда они, обессиленные, но в упоении друг от друга и от своей любви, возвращались домой. Она слышала раскатистый смех Франсуа. Лошади шли бок о бок, на спущенных поводьях, и они, склонившись друг к другу, долгие минуты не расплетая объятий, покачивались в седлах в такт лошадям.
– Глядя на нас, не скажешь, что мы заядлые охотники, – шутил Франсуа.
И ночная лесная жизнь – там грызун принялся скрести кору, там прошуршал по траве еж, там внезапно сорвалась со ствола гнилая ветка – окружала их легкими таинственными шумами и могучими пьянящими запахами перегноя, грибов, дичи, дымка…
Жаклин захотелось плакать. Ну почему в том же лесу, в то же время дня ей заказано снова испытать мгновения счастья?
Она упрекала себя в том, что решилась ворошить слой мертвых листьев, бередить зарытые в глубинах памяти радости прошлого.
Внезапно слева от себя она услышала крики, звук рога и голоса доезжачих, натравливающих собак.
– О, гой! Фю-фю! Туда бежал! Туда бежал!
«А! Олень вернулся в лес», – с облегчением, точно избежав страшной опасности, подумала Жаклин; она пустила лошадь в галоп и догнала охоту одновременно с еще десятком всадников.
– Он снова взял направление на Моглев! Думаю, он от нас не уйдет, госпожа графиня, думаю, теперь-то уж он от нас не уйдет! – сдернув шапку, крикнул ей Лавердюр.
И он ринулся на широкую просеку, куда устремилась за ним вся команда.
Уверенная теперь, что успеет к финальному улюлюканью, Жаклин подумала: «В сущности, ведь и с Франсуа мы частенько цапались во время охоты. А потом так над собой хохотали… Наверняка мы с Габриэлем тоже посмеемся, когда встретимся…»
Госпожа де Бондюмон провела тихий приятный день возле камина с грифонами, обмениваясь воспоминаниями и сожалениями о несбывшемся со своим старым любовником, а потом наблюдая, как он погружается в дрему. Дважды она подходила к его креслу с высокой спинкой, гладила руку с сердоликовой печаткой, подносила ее даже к губам, затем торопливо, покачиваясь на нетвердых ногах, садилась на место, боясь, как бы в это время не вошел кто-то из слуг.
Они любили друг друга тридцать лет, вернее, они полюбили друг друга тридцать лет назад и привязались один к другому тем нежным чувством, какое поддерживает иллюзию любви у тех, кто перешел грань возраста, когда еще бывают перемены.
Вдовство Урбена де Ла Моннери восходило к 1875 году. Его молодая жена умерла в родах, так же как и младенец.
– О нет! Я пережил слишком большое горе и никогда уже не женюсь, – сказал тогда Урбен.
В начале их связи Одиль де Бондюмон была еще замужем. Однако даже после смерти господина де Бондюмона они с Урбеном продолжали соблюдать в глазах света все ту же осторожность, все ту же безупречную сдержанность – таким образом, за тридцать лет они провели наедине столько же времени, сколько требуется обычным любовникам, чтобы возненавидеть друг друга через тридцать месяцев.
Подкрадывалась импотенция, потом начались недуги. Теперь они подошли к порогу смерти. И когда госпожа де Бондюмон тихонько подносила к своим сморщенным губам высохшую руку слепца, а он делал вид, будто не замечает этого, они испытывали то же неистовое волнение, какое вспыхивает в порыве самой пылкой страсти, потому что в них не переставая билась мысль: «Насладимся же этим: это все, что нам осталось, и, быть может, в последний раз».
Внезапно маркиз очнулся от дремы.
– Одиль, Одиль! – воскликнул он. – В парке трубят «улюлю». Я не ошибаюсь?.. Идемте, идемте, отведите меня.
– Да что вы, Урбен, не пойдете же вы без пальто!
Он затряс бронзовым колокольчиком.
– Флоран! Треуголку, трость и пальто!
Через две минуты он уже торопливо шагал по парку, опираясь на руку своей старинной подруги.
– Да не идите так быстро, – сказала она, – вы устанете.
Жаклин и ее товарищи, выехав уже на дорогу, ведущую к пруду, не переставая трубили в рог. Голова оленя виднелась посередине пруда, а собаки плавали вокруг. Сбежались все лесничие и слуги из замка.
– Ну что, ты видишь, папочка! – кричала Леонтина Лавердюр. – Взят он, твой двухтысячный. И нечего было так переживать.
– Карл Великий, отвязывай лодку, – скомандовал Лавердюр и, заметив маркиза, пошел ему навстречу. – Какой прекрасный конец охоты, господин маркиз, какой прекрасный конец, – сказал он. – Жалко, что господин маркиз не может этого видеть.
– Нет-нет, я вижу, Лавердюр. То есть я помню… как это бывало. «Улюлю» в Моглевском пруду – нет ничего прекраснее! Много лет уже такого не случалось.
– А уж охота-то была, господин маркиз, и мечтать не надо. Я доложу нынче вечером господину маркизу, покажу на макете. И госпожа графиня, как всегда, прискакала первой, вместе с собаками. А господин граф, к примеру, так хорошо вел всю охоту вначале… Правда, видно было, как он всей душой старается заменить господина… неизвестно, куда он делся.
Лавердюр снова надел челюсть и будто помолодел.
Подъехало несколько машин и экипажей. Из них вышло значительное число всадников, давно уже спешившихся.
Маркиза окружили и поздравляли, словно по случаю крупной победы или большого семейного праздника.
– Ах! Дорогой Урбен, какой великолепный получился у тебя день ангела: ты можешь радоваться, – говорил тучный Мелькиор де Дуэ-Души.
Каждый был доволен собой и другими, каждому хотелось проявить дружеское расположение, говорить приятные вещи.
– Лавердюр, – воскликнул маркиз, – принимайте оленя. Я не люблю, когда животные страдают.
Лавердюр сел в лодку, которую Карл Великий погнал по пруду с помощью шеста.
«О Господи! Сделай так, чтобы ничего не случилось!» – молилась Леонтина Лавердюр. Она видела, как олени в агонии переворачивают лодки. Но тогда Лавердюр был молод.
Вся дорога к пруду была забита зрителями. Длинноносые мелкопоместные дворяне, спешившись, распрягли лошадей и принялись растирать себе ноги и поясницу. Наступила глубокая настороженная тишина, в которой слышалось скольжение лодки по воде.
Лодка и олень несколько мгновений плыли бок о бок, точно два сооружения, готовых сомкнуться. Затем Лавердюр левой рукой схватил оленя за хвост и дважды вонзил нож ему в бок. Животное на полкорпуса выскочило из воды и тут же рухнуло обратно: рога завалились, подобно сломанной мачте, и поверхность пруда вокруг них ярко окрасилась кровью.
Лавердюр, стоя, снял шапку, а на берегу снова затрубили в рог.
Пиршество собакам устроили перед замком в нескольких шагах от того места, где утром проходило благословение. Куски разрубленной туши разложили на лужайке. Плантероз, старик лесничий, взял голову оленя и принялся раскачивать ее на глазах у своры, сдерживаемой хлыстом, затем стянул «скатерть» – кожу животного, прикрывающую груду окровавленных внутренностей. И собаки жадно набросились на них.
– Жаклин! Жаклин! – позвал маркиз. – Пойдите сюда. Так кому все-таки мы воздаем почести? Скажите-ка мне, кто у нас тут.
– Ах! Дорогой маркиз, – сказал Жилон, – сегодня у нас такой замечательный предводитель команды, и мне кажется, все право за ним.
– Кто это?
– Один из самых замечательных предводителей команды. Правда, Жаклин?
– Да, да. Безусловно, – с улыбкой ответила она.
– Но кто же, господи ты боже мой! – в нетерпении воскликнул слепец.
По знаку Жилона Лавердюр, предупрежденный заранее, подошел ближе.
– Господин маркиз, – сказал он, – господа решили, что ногу этого оленя, взятого под Моглевом, двухтысячного с тех пор, как я состою в команде, должно преподнести господину маркизу.
Жаклин взяла руку дяди, приблизила ее к шляпе, на которой Лавердюр подносил ногу с надрезанной тоненькими полосками кожей, в то время как господа протрубили в рог положенный в таких случаях сигнал.
– Это же смешно, просто смешно! – пробормотал растроганный маркиз.
За долгую карьеру великого доезжачего Лавердюр удостоился двухтысячного рукопожатия, которое было одновременно и первым человеческим рукопожатием, первым – когда между ладонями не шелестела сложенная банкнота.
Затем маркиз сделал вид, что разглядывает ногу оленя, щупал копыто, в то время как Лавердюр делал вид, что вытирает фетр своей шляпы.
– Скажите, Лавердюр, у вашего оленя были сильные ноги?
– О да, господин маркиз, ноги у него были сильные.
– Вы всегда оставались превосходным товарищем, Лавердюр, – совсем тихо сказал маркиз.
Сигнал «Моглев», ударившись о величественный парадный фасад, прокатился по крышам деревни и разнесся по парку, когда появились, приближаясь на рысях, два всадника в светло-желтой одежде. Это были Де Воос и огромный голландский барон.
Оба всадника резким жестом бросили поводья слугам и тяжело сползли с седла: шагая нетвердой походкой в своих высоких сапогах, глядя вокруг мутными глазами, они присоединились к группам, расточая дамам двусмысленные и слащавые комплименты. Язык, на котором изъяснялся голландец, почти нельзя было понять.
«Гляди-ка, – подумал Лавердюр, – вот и опять барон налился через край, и, похоже, господин граф составил ему компанию. Оттого он и не догнал нас».
Когда Габриэль заметил Жаклин, его лицо, хранившее до сих пор безмятежное и добродушное выражение, налилось гневом.
– А, вот вы где! – воскликнул он. – Прежде всего я требую, чтобы Жюльена выставили за дверь. Он не может даже проследить, чтобы лошадей подковали как следует. За дверь, вы слышите? Бардак тут развели в вашем сарае. Я вас всех вымуштрую, все будете по струнке ходить, как у меня в эскадроне. Все попрыгаете.
– Да, да, безусловно. Но теперь я прошу вас замолчать, – сухо проговорила Жаклин, – потому что вы чудовищно пьяны и беспредельно меня огорчаете. Я никогда не предполагала, что вы можете дойти до такого состояния.
– Я нисколько, ни на йоту не пьян, – крикнул Габриэль, – а если когда-нибудь и буду, женщины должны молчать.
К счастью, трубачи продолжали дуть в трубы и заглушали его голос.
– Что же это в самом деле? – снова взяв ироничный тон, продолжал Габриэль. – Почему не трубят «Шудлер» или «Франсуа»? Ничего не могут как следует сделать.
И, поднеся к губам металлический мундштук, он принялся предельно фальшиво трубить «шестигодовалый олень, совсем молодой», несколько вольные слова которого были известны:
Вот прекрасный шестигодовалый олень,
совсем молодой,
Он – настоящий рогоносец.
Если бы Жаклин была одна, она бы разрыдалась.
Стало темно и одновременно холодно. Гости разошлись по машинам или отправились закусить в буфет, оборудованный в столовой замка.
Жаклин хотелось удержать Габриэля хотя бы от этого последнего испытания, и она отослала его спать.
– Ван Хеерен, ван Хеерен, друг мой, давайте выпьем! – кричал он. – А всех женщин – к черту!
– Если вы непременно хотите, чтобы вас приняли за лакея Франсуа, – сказала Жаклин, – вы можете продолжать.
Увидев, как исказилось лицо Габриэля, она испугалась своих слов. Однако она добилась своего. Ей удалось сквозь пьяный угар добраться до единственного чувствительного места в сознании мужа. И он не попытался поднять на нее руку.
Герой сегодняшнего утра, тот, кому все завидовали и кем восхищались, ушел нетвердой походкой, повесив голову, бормоча себе под нос: «Лакей Франсуа… лакей Франсуа…»
– Бедная малышка, – шептались гости, – вот ужас, если муж у нее окажется пьяницей.
Жаклин утащила госпожу де Ла Моннери в маленькую гостиную.
– Но в конце концов, мама, – выпалила она, – что мне делать? Не могу же я жить в таком кошмаре!
– Ну-ну, не драматизируй, – сказала старая дама. – Он слишком много выпил, это случается со всеми мужчинами. И потом, что же ты хочешь – он ведь служил в колонии!
Посреди ночи, когда весь замок погрузился в тишину, Жаклин, проплакавшая все время, пока была одна, увидела Габриэля на пороге своей спальни.
– О нет, только не это, только не сегодня! – воскликнула она. – Только не после того, как вы себя вели. Я никогда вам не забуду, никогда!
Однако, проспав пять часов, Габриэль еще не вполне протрезвел. Он принялся грубо выкладывать ей все свои претензии, пережевывая свою ревность, предъявляя бесконечные требования.
Потом он лег в постель Жаклин, и она не сумела ему помешать.
– Лакей, значит, лакей Франсуа? – повторил он, раздевая Жаклин и ложась на нее. – Ну ладно, увидишь, сейчас ты увидишь.
Он говорил не умолкая. Последний запрет между ними был снят – запрет бесстыдных слов. Той ночью Габриэль открыл Жаклин сладострастие непристойных выражений. Она не решилась – она никогда не решится – повторить их. Но она их принимала, вымаливала движениями рук и поясницы: она отвечала на них хриплыми вскриками, она чувствовала, как они разливаются по всему ее телу. Она запросила пощады, когда наслаждение стало переходить в боль.
Обессиленная, напуганная, пристыженная и оглушенная грехом, совершенным в брачной постели, Жаклин, лежа с широко открытыми в темноте глазами, поняла вдруг, что никогда не испытывала подобных радостей плоти, – и с этой минуты она многое стала прощать своему второму мужу.
Крах Шудлера
В начале весны 1929 года в Париже появился человек, о котором газеты писали мало, который не бывал в салонах, но чье присутствие, однако, чувствовалось в городе. Он снял пол-этажа в отеле «Риц» с видом на Вандомскую площадь; в личное пользование ему была предоставлена целая телефонная линия, и не проходило часа, чтобы посыльный не приносил ему подноса, заполненного письмами и телеграммами. Однако слуги, убиравшие его апартаменты, никогда не находили ни единого клочка бумаги, даже в мусорных корзинах. Жил он один, рядом с ним никогда не было женщин, если не считать секретарши с коротко стриженными седыми волосами и усталым, серьезным и жестким лицом. Посетители различного вида и возраста, напоминавшие то телохранителей, то заведующих отделом универсального магазина, шли к нему чередой. Перед отелем его всегда ждала машина с утолщенными стеклами.
Человеку этому, который был способен довести до разорения сотни промышленных компаний, ввергнуть в нищету десятки тысяч рабочих, который мог позволить себе отказываться от приглашений королей, поддерживать революции в Южной Америке, сбрасывать европейских министров, который владел крепостью на одном из островов Балтийского моря и самой большой в мире яхтой, стоявшей на якоре в Триесте, который путешествовал с четырьмя паспортами, притом один из них был выдан Ватиканом, и чью грудь украшали почти все существующие на свете ордена, – этому человеку было шестьдесят лет, и звали его Карл Стринберг.
Легенда, ходившая о нем на бирже вокруг «корзины»[16], в кулуарах парламента, на заседаниях административных советов и даже в салонах моды во время показа коллекций одежды, складывалась из весьма скудных сведений: яхта, крепость, гигантские турецкие, длиной в двадцать сантиметров, сигареты с золотым фильтром, всегда торчавшие у него изо рта, рояль, который всякий раз поднимали к нему в номер накануне приезда, его ссора с Пьерпонтом Морганом, несколько недавних разорений, происшедших не без его участия, неизменно холостяцкий образ жизни…
Но когда задавали вопрос относительно его корней, обычно следовал неопределенный жест.
Никто не мог похвастаться, что знал его в молодости. Трудно было представить себе, что человек, колесивший по миру под именем Стринберг, появился на свет из чрева женщины; он казался скорее неким воплощением зла, внезапно выплывшим из скандинавских туманов в мирском обличье печали, призванным исполнить здесь, на бренной земле, таинственные замыслы каких-то дьявольских сил.
Внешне его знали очень немногие – у него был куполообразный череп, покрытый седыми, смазанными лосьоном волосами, прямоугольное лицо, кожа, напоминавшая пергамент, блеклые глаза, отстраненный взгляд которых был почти непереносимо холодным, огромные узкие красные руки, будто снятые с византийской фрески, которые, казалось, не могли ему принадлежать.
Во всякое время года, в любой час дня он носил неизменные высоко зашнурованные ботинки из черного блестящего шевро и чуть припадал на одну ногу, – у провинциального судьи это могло бы явиться следствием застарелого артрита коленного сустава, а у него казалось бесовской хромотой.
Временами, в конце дня, когда солнце садилось за Триумфальной аркой и машины, идущие вдоль Елисейских Полей, сливались в нескончаемом светящемся потоке, какой-нибудь дипломат, повернувшись к заднему стеклу, вскрикивал со смешанным чувством удовлетворенного тщеславия и тревоги – да еще, может быть, легкого стыда за оба эти чувства:
– А! Вот и Стринберг!
В этот час финансист обычно приказывал шоферу ехать к берегам Сены, к Рейю и Буживалю. В каждой столице, где он бывал, он любил ездить вдоль реки – по заросшим дорогам, где заводские трубы, турбины, подъемные краны и вагонетки у дебаркадеров чередуются с вытянутыми зелеными линиями островов, парками родовых поместий, поэзией старых деревень.
И пока в вечерней свежести машина катила по дороге, Стринберг, неподвижно сидя на заднем сиденье и рассеянно глядя на мелькающий за окном пейзаж, диктовал письма секретарше, примостившейся напротив него.
Затем в ресторане у воды он ужинал, не говоря ни слова и запивая еду минеральной, тогда как секретарша потихоньку хмелела от французского вина и в обрамлении своих седых волос становилась похожей на хлебный мякиш, до синевы раскисший от водки.
Вернувшись в отель, отгороженный от мира плотной тишиной пустых комнат, он открывал рояль и огромными узкими красными руками с жуткими длинными пальцами и белыми ногтями играл что-нибудь из немецкой музыки, чаще всего из Баха или Моцарта, пока фантастическая счетная машина, встроенная в его куполообразный череп, производила свои операции со скоростью и точностью робота.
У человека этого, знавшего наизусть обменный курс любой валюты мира и способного одним своим словом изменить его, никогда не было в кармане ни единой банкноты, он никогда и ни за что не платил сам. Секретарша или кто-нибудь из приближенных оплачивали мелкие счета. Какой-нибудь банк – где бы Стринберг ни находился – покрывал его колоссальные расходы. Он не подписывал даже чеков.
Деньги не существовали для него в своем тривиальном бумажно-монетном выражении или даже в виде драгоценных металлов. Он перешел грань обычного богатства. И так же, как Пирр, Александр Македонский или Карл Великий не могли бы продать свою империю, он не мог «реализовать» свое состояние, потому что не было в мире человека, который был бы способен его приобрести.
Анатоль Руссо, в четырнадцатый раз с начала своей карьеры возглавлявший министерство и впервые добившийся портфеля министра финансов (после долгих лет службы в министерстве просвещения), собирался выходить из своего кабинета на улице Риволи, чтобы идти обедать.
Спешно выпроводив последнего посетителя («До свидания, дорогой мой… договорились, можете на меня рассчитывать…»), он взглянул на большие часы работы Буля, висевшие на стене («Те, что значатся в инвентарном реестре Людовика XIV под номером два», – подумал он, как всегда, когда глядел на них), и понял, что у него в запасе есть еще пять минут.
В другой раз он тотчас занялся бы чем-нибудь, чтобы со спокойной совестью опоздать и придать больший вес своим извинениям и ссылкам на изнурительную работу.
Однако сегодня он довольствовался тем, что собрал своими коротенькими ручками разбросанные по письменному столу бумаги в ожидании, пока промелькнут эти лишние пять минут.
«Он, кажется, не любит ждать, – вспомнил Руссо. – Но это все-таки не повод, чтобы являться раньше».
Министр подошел к окну, карниз которого доходил ему почти до груди, – без специальных высоких каблуков он был совсем маленького роста, – и окинул взором знаменитый двор.
Коль скоро у Руссо оставалась еще пара минут для того, чтобы в одиночестве насладиться высоким положением, которого он достиг, он решил доставить себе удовольствие и вообразить двор Лувра заполненным мушкетерами, гвардейцами, вельможами с рапирами на боку, гонцами, скакавшими во весь опор; перед его мысленным взором прошла длинная череда – королей мудрых, королей безумных, королей-маньяков, регентш, снедаемых сластолюбием, фаворитов, кардиналов, министров, и все они сменяли друг друга за этим самым окном и в такой же мере, как и он, были озабочены судьбой государства и своей собственной персоной.
«А когда я стану премьер-министром, – подумал он, – я снова возьму себе портфель министра финансов, чтобы сохранить этот кабинет. И здесь родятся великие начинания».
Ибо вот уже одиннадцать лет Анатоль Руссо при каждом падении кабинета министров ждал, что его позовут сформировать новый, и никогда не переставал отчаиваться и надеяться.
– А! Дюпети! – сказал он, обращаясь к вошедшему в комнату довольно молодому высокому лысому и корректному человеку. – Будьте любезны, положите все эти бумаги в мой ящик и заприте… И естественно, ни слова ни прессе, ни вообще кому бы то ни было о моей сегодняшней встрече, договорились?
Дюпети, начальник канцелярии, склонил свою лишенную растительности голову.
Две машины – министра и Стринберга – въехали почти одновременно во двор особняка Шудлера. В вестибюле они кивнули друг другу, но представляться не стали. Руссо тотчас почувствовал к финансисту неприязнь, и тайный инстинкт подсказал ему, что лучше с этим человеком дела не вести. Бок о бок они поднялись по лестнице, застланной толстым красным ковром.
Шудлер ел левой рукой, и, когда ему приходилось пользоваться ножом, слышался неприятный скрип по тарелке.
– Когда моя жена Адель, которую вы хорошо знали, дорогой Руссо… – неожиданно проговорил он.
И запнулся – на его лице появилось веселое и одновременно тоскливое выражение, но никто так и не узнал, что он хотел сказать.
– Итак, ваше превосходительство, господин барон ознакомил вас со своим проектом, который я поддерживаю? – осведомился Стринберг.
Стринберг, обращаясь к собеседникам, всегда именовал их наиболее престижными титулами, как это делают люди, стоящие на двух крайних ступенях социальной лестницы: лакеи и государи, то есть те, кто в наибольшей степени дорожит своим местом, а потому потакает тщеславию ближнего.
Обращение «ваше превосходительство», постепенно доходившее до сознания Руссо, смягчило антипатию, которую он начал было инстинктивно испытывать к Стринбергу.
– Да, в некоторой степени, – ответил Руссо, чтобы выиграть время.
Министр любил, чтобы за едой ему объясняли вещи, которые он уже знал, что давало ему возможность спокойно насладиться кухней. Смакуя плов из лангуста, утку с кровью и гусиную печенку с трюфелями, Руссо с каждым проглоченным куском, с каждым глотком редкого вина, далекие даты изготовления которого нашептывал ему на ухо дворецкий, упрекал себя в невоздержанности. «Весь день буду испытывать тяжесть в желудке. И не смогу работать… Ох! А, да черт с ним! Живем один раз, – думал он. – Приму таблетку для пищеварения». И эйфория гурманства полностью овладела им. «Конечно, конечно, я должен поступать как он», – упрекал себя Руссо, глядя, как Стринберг пьет только минеральную воду.
Тем временем Шудлер принялся еще раз излагать проект, о котором шла речь.
Десять лет спустя после подписания мира значительная часть зданий в областях, разрушенных войной 1914–1918 годов, нуждалась в реконструкции, тогда как государство далеко еще не завершило ежегодную выплату компенсаций за урон, нанесенный войной.
Потерпевшие, согласно финансовому закону от 1920 года, получили разрешение образовывать сообщества и распространять при посредстве некоторых банков займы под гарантию государства, чтобы как можно скорее восстановить разрушенное войной имущество.
Практически операция осуществлялась следующим образом: один из банков с помощью сообщества, созданию которого он способствовал или которое создавал сам, собирает в определенной области страны свидетельства об ущербе, понесенном за время войны. Затем банк выпускает и размещает на общую сумму или на сумму предъявленных к оплате и собранных свидетельств об ущербе заем, обеспеченный государственными аннуитетами[17], посредством которых выплачиваются проценты и гасится основной долг.
Тогда банк передает пострадавшим суммы, но только по предъявлении свидетельства о проведении строительных работ, притом отдельными порциями – по пятой доле каждая.
Было условлено, что банки по первому требованию должны подтверждать представителям министерства финансов соответствие между свидетельствами о новом обороте свободных средств и отчислении части средств, собранных при помощи займа.
Такое соглашение в любую минуту может быть расторгнуто, если надежность банка ставится под сомнение, – в этом случае он обязан немедленно предъявить находящиеся у него средства.
На данный момент два сообщества, наиболее значительные из всех до сих пор известных, создаются в районах Лотарингии и Артуа: проценты по акциям каждого из них превышают сумму в миллиард франков.
Именно признания за своим банком права на выпуск займов для сообществ и добивался Ноэль Шудлер от Анатоля Руссо, чтобы получить в свое распоряжение эти два миллиарда.
Исполин сел на своего любимого конька – строительство городов и промышленных предприятий. Он говорил о благотворном влиянии, какое может оказать – посредством мощных строительных синдикатов – крупный банкир, человек смелых идей, на развитие архитектуры и градостроительства. Разве во все времена роль банкиров не состояла в поощрении архитекторов?.. Как, скажем, Медичи…
Иные люди к концу жизни словно вновь начинают играть в те игры, в какие играли в детстве, когда, беря за образец картинки в своих книжках, они изображали Цезаря, или Людовика XI, или Конде, бросали свой маршальский жезл во двор соседнего дома или запирали восьмилетних Ла Балю[18] в ивовых корзинах на чердаке.
Быть может, в глубине души люди никогда не перестают играть в знаменитостей: однако на двух крайних точках жизненного пути они не боятся показывать это открыто; но игрушки, какими пользуются старики, куда опаснее детских.
Руссо, казалось, был несколько раздражен, хотя и не потрудился вспомнить, в какую игру играл он сам всего час назад, когда стоял у окна в Лувре.
– Ни одно великое начинание не создается без воли и разума государственного деятеля, – сказал Стринберг, глядя на Руссо.
И тот подтвердил, в глубине души получая удовольствие от этой фразы.
Шудлер задумчиво опустил голову.
– Когда моя жена Адель… – сказал барон.
Он вздрогнул и огляделся, точно проговорил это кто-то другой.
– Так что же, ваше превосходительство, – снова начал Стринберг, – вы думаете об… этом соглашении?
– Но, дорогой господин Стринберг, – ответил Руссо, – я думаю, что оно вполне осуществимо. Наш друг Шудлер подготовит документы, которые изучат мои службы, а я – и он это знает – употреблю все мое влияние…
Белесые глаза северного финансиста; нависшие веки Анатоля Руссо; темная щель глаза исполина, между складками жира… красные руки Стринберга, похожие на руки палача III века, забытые на скатерти; маленькие, коротенькие, изуродованные ревматизмом ручки гурмана-министра, толстая, в коричневых пятнах рука барона, будто мнущая ком глины… Трое мужчин хранили молчание, пока их обносили салатом.
Неподкупный министр Анатоль Руссо удовлетворился тем, что, узнав о скором падении кабинета, при помощи одной небольшой операции обеспечил себя рентой, однако не могло быть и речи о том, чтобы предлагать ему проценты, взятку или какой-либо доход с операции.
Таким образом, Руссо не получал никакой личной выгоды от этого дела, и, следовательно, у него не было никаких – если не считать дружеских связей – оснований торопиться.
«Но зачем Ноэлю понадобилось присутствие Стринберга, – думал министр, – когда он прекрасно мог бы решить этот вопрос со мной с глазу на глаз. Может быть, он хотел произвести на меня впечатление, показать, что у него такая мощная поддержка… что он на дружеской ноге со Стринбергом… или же, наоборот, решил воспользоваться моим присутствием, чтобы произвести впечатление на Стринберга… да, скорее так».
– Вы понимаете, дорогой мой Руссо, что о предоставлении кредитов именно моему, а не какому-либо другому банку просят сами сообщества, – уточнил Шудлер, невольно взглянув на Стринберга.
– А, да, – проговорил Руссо.
Он почти уяснил подлинную роль международного финансиста во всем этом деле и почти раскусил причины, заставлявшие Ноэля выказывать такую настойчивость и спешку, но через секунду забыл то, о чем, казалось, уже догадался. «Решительно, я слишком много съел… да и потом, все это не имеет такого уж значения».
– Впрочем, – объявил он, откидывая со лба густую седую прядь, – должен признаться, что политика правительства не одобряет образования новых сообществ. Аннуитеты и так уже тяжелым бременем ложатся на бюджет, а государству самому, быть может, придется платить по обязательствам, прибегнуть к займу. Дадут кредиты или не дадут, а если дадут, то на каких условиях?
«Руссо осторожничает, – подумал Ноэль. – И потом, не нужно мне говорить о том, что их не интересует и чего они не в силах понять…»
Фраза, которую он дважды уже обрывал, жужжала у него в голове, будто оса, пытающаяся выбраться из банки.
Министр, борясь с оцепенением, постепенно охватывавшим его от переедания, продолжал свое словоблудие.
– Пойдемте пить кофе в кабинет, – озабоченно сказал Шудлер, поднимаясь из-за стола.
Руссо прошел первым, совсем маленький, несмотря на высокие каблуки, горделиво вздернув голову, с порозовевшим лицом и округлившимся под жилетом животиком.
Трое мужчин вошли в комнату с высоким потолком и столами, обтянутыми зеленой кожей, – средоточие и цитадель могущества Шудлера.
– Я не показывал вам моих наград? – обратился Ноэль к Стринбергу.
Он подвел финансиста к плоской витрине, помещенной под его портретом, где на ярко-красном бархате были разложены колодки, эмали, галстуки и ленты самых разнообразных и самых старинных орденов.
Стринберг впервые, казалось, проявил некоторый интерес к чему-либо, кроме финансовых комбинаций.
– Смотрите-ка, у меня этого нет, – проговорил он, указывая на белый с зеленым крест. – А-а, вы офицер этого ордена? А я – кавалер Большого креста… Ага! Ну конечно же у вас есть награды бывшей Австро-Венгрии…
Они напоминали двух коллекционеров, собирающих почтовые марки, и еще немного – стали бы предлагать друг другу обмен. Хотите моего Венцеслава Святого? А я вам отдам Зеленого Дракона.
– Э! Не будь министерств, которые их распределяют!.. – воскликнул Руссо, фамильярно хлопая Шудлера по плечу, чтобы деликатно напомнить, кому тот обязан своим галстуком ордена Почетного легиона.
– Немножко коньяку, – предложил Шудлер.
Руссо помахал рукой в знак отказа.
– Напрасно, мой дорогой. Он – тысяча восемьсот одиннадцатого, к тому же последняя бутылка…
– А-а! Ну, раз тысяча восемьсот одиннадцатого года… – проговорил Руссо с видом человека, сдающего позиции.
Это был тот самый знаменитый коньяк – его всегда подавали у Шудлеров по торжественным случаям, – которым угощали и Моблана… Последняя бутылка.
Ноэль осторожно взял ее левой рукой, боясь, как бы правая его не подвела.
Руссо обхватил рюмку ладонями, будто озябшую птичку, и погрузился в глубокое бархатное кресло, чтобы лучше прочувствовать аромат драгоценной жидкости.
А Стринберг, разглядывая двух этих паяцев – сонного карлика и трясущегося исполина, – которых судьба бросила в его красные руки, сказал:
– Вы, ваше превосходительство, выдвигали сейчас идею займа, предназначенного покрыть нужды строительства? Если речь идет о частном займе, я готов был бы вам его предоставить.
Руссо оторвал нос от рюмки, и жаркая волна еще ярче окрасила его щеки. Как? Стринберг, человек, которого правительства уламывают месяцами, человек, о котором мечтает в надежде на чудо каждый министр финансов, предложил ему вот так, просто… Быть не может: это невероятно…
Но Стринберг уточнил, что делает это предложение не вообще французскому правительству, а лично Анатолю Руссо. Его превосходительство в самом деле первый французский политический деятель, который давно уже производит на него большое впечатление широтой ума и вызывает такое чувство доверия.
Руссо не посмел уточнять цифры, будто это могло оскорбить безграничные возможности Стринберга.
«Вот, пожалуйста! – думал Руссо. – Насколько обманчиво бывает первое впечатление!..»
Он уже представил себе, какое ощутимое влияние он приобретет благодаря предложенному займу. Укрепив свои позиции союзом со Стринбергом, он станет незаменимым человеком, мессией… будущим премьер-министром.
– Франция с радостью примет, – сказал он, глядя на застекленные шкафы, стоявшие вокруг, точно в поисках чего-то, чем он мог бы отблагодарить финансиста. – Нам нужно встретиться, и встретиться поскорее, – добавил он.
– Безусловно, я люблю, чтобы мои предложения принимались безотлагательно, – подхватил Стринберг.
Естественно, соглашение с банком Шудлера – что зависело от одной лишь подписи его превосходительства, как считал Стринберг, – будет подписано через неделю.
Руссо сделал жест, показывавший, что он все понял.
– Дело будет улажено к нашей следующей встрече.
«Решительно, – думал Шудлер, – в Стринберге есть что-то гениальное. Содружество двух гениальных людей, Шудлера и Стринберга: займы для сообществ, заем для правительства, великие планы и великое их воплощение… Удача, настоящая удача, что Руссо так понравился Стринбергу. Как верно я рассчитал, сведя их вместе…»
И вдруг исполин забыл, что должен следить за фразой-осой, жужжавшей у него в голове.
– Ну что же, превосходная вышла встреча, – проговорил он. – Так вот, видите ли, когда у моей жены Адели начал нарушаться месячный цикл…
Случилось: он заговорил об этом, и теперь ему было легко и вместе с тем неловко. Стринберг, казалось, вообще не понял, о чем идет речь.
– …Значит, ей показалось, что необходимо навести порядок: она приказала перебрать все стенные шкафы, почистить серебро, а я все над ней смеялся и говорил: «Брось! Это можно оставить до послезавтра». И вот, с тех пор как она умерла, я понял, что женщины интуитивно организованы лучше нас…
Он смутился и в то же время растрогался, не понимая, почему с самого начала обеда ему казалось столь важным об этом рассказать.
Руссо достаточно выпил и был настолько доволен собой и другими, что признания Ноэля его нисколько не удивили. Он даже воспользовался ими, чтобы сострить.
– Ну что же, господа, – сказал он, – я думаю, сегодня мы навели порядок в стенных шкафах Франции.
В конце рабочего дня Анатоль Руссо, выбравшись наконец из эйфорического тумана, в какой его погрузили излишества стола, взглянул на вещи более критическим оком. Шудлер со своей трясущейся рукой и странными речами показался ему очень усталым. С другой стороны, предложение Стринберга грянуло как гром среди ясного неба… И понять, что происходит в голове у этих двоих, было делом немыслимым.
Руссо позвонил Симону Лашому и спросил, не может ли он заехать в министерство. Симон появился поздно.
– Ах, дорогой Симон, – начал министр, – я хотел просить вас… Фотограф из вашей газеты тут как-то, на благотворительном празднике, вовсю старался снимать меня с ученицами балетной школы. Я понимаю, что это прелестно, но, учитывая события и важные решения, какие мне, возможно, на этих днях предстоит принять, я был бы вам признателен, если бы этот снимок не помещали.
Хотя Симон прекрасно знал, сколько часов своего драгоценного времени Руссо каждый день тратит на изучение всего, что говорится о нем в прессе, проталкивая одни статьи, задерживая другие, задабривая карикатуристов, он все же полагал, что министр не стал бы беспокоить его только по этому поводу.
На всякий случай, чтобы визит не прошел совсем уж зря, он попросил Руссо увеличить жалованье инспектору государственных владений в его округе.
– Договорились, – ответил Руссо, – бумаги у Дюпети: направьте мне письмо, и все будет сделано.
Руссо поднялся, так как стенные часы работы Буля («под номером два в реестре Людовика XIV…») прозвонили семь, подошел к Симону, фамильярно взял его под руку и, утащив к окну, рассказал ему о некоторых вещах, обсуждавшихся на обеде у барона Шудлера.
– Дорогой мой, я совершенно очаровал, – объявил он, – кое-кого, кто недосягаем и перед кем все дрожат. Он на меня прямо молится – впрочем, я подробно изложил ему ситуацию и, надо сказать, весьма впечатляюще. И ничего у него не просил. Он сам выдвинул предложения, о которых я пока не могу говорить, но которые очень и очень важны. – На мгновение он умолк. – Взгляните-ка сюда. До чего же прекрасно, до чего величественно, – проговорил он, указывая на колоннаду, которая уже погружалась во мглу. – Во всяком случае, – продолжал он, – я хотел бы знать, что вы думаете о положении нашего друга Ноэля на сегодняшний день и какая существует связь между Стринбергом и ним?
– Но… я не знаю, – осторожно и в то же время искренне проговорил Симон. – Я занимаюсь исключительно «Эко» как отдельным предприятием и совершенно не касаюсь вопросов, связанных с банком.
– Да-да, понимаю, – сказал Руссо, – но Шудлер оказывает вам доверие, какого он никогда никому не оказывал, даже собственному сыну: попытайтесь разузнать у него что-нибудь. Я прошу вас об этом в его же интересах… а заодно, может быть, и в ваших собственных. – Руссо снова помолчал. – Стринберг предложил мне заем, – добавил он, понизив голос и позволяя себе говорить о том, о чем твердо решил молчать. – И я хочу… Мне остается только определить цифры, так что вы понимаете…
И снова тщеславие возобладало в нем над осторожностью. Симон покачал головой.
– Ах! Симон, мой мальчик, – продолжал министр с самодовольной улыбкой, подняв руку к плечу молодого депутата, – напрасно вы меня предали!.. Да-да, я знаю, что говорю. Вы не должны были выдвигать себя от другой партии. И из-за этого вы потеряли время. А со мной достаточно быстро стали бы, может, и начальником департамента. Но вообще говоря, и это тоже вполне поправимо.
Видя себя уже в роли благодетеля, Руссо с легким волнением глядел на своего давнего подопечного.
– Итак, я на вас рассчитываю, – заключил он. – Но все это остается между нами, не так ли? Видите, какое я вам оказываю доверие…
Симон в задумчивости вышел и направился прямо к Марте Бонфуа. Она тотчас набрала номер телефона Робера Стена.
Робер, глава партии, один из «близких друзей» с каминной доски, собирался вечером в театр. Он хотел посмотреть – пока пьеса не сошла с репертуара – «малышку, о которой нынче все говорят, последнее открытие Вильнера».
– По-моему, она ничего собой не представляет и вид у нее стервозный, – сказала Марта. – Мне кажется, Эдуард снижает уровень.
На другом конце провода глава партии двусмысленно пошутил.
– Да нет… я говорю: снижает уровень, – повторила Марта, рассмеявшись своим прекрасным мелодичным смехом. – Робер, ты невозможен! Так, значит, решено – ты приходишь после театра.
После полуночи глава партии позвонил в дверь квартиры на набережной Малаке.
Этот бывший любовник Марты был человеком с высоким лбом и смуглой кожей. Довольно тонкие его пальцы портили толстые складки кожи на суставах, что было особенно видно, когда он держал в руках сигарету или карандаш. Адвокат с именем, искусный и ловкий политик, много раз уже занимавший кресло премьер-министра, Стен тяготел к глобальным идеям и обладал высочайшей общей культурой, что часто давало ему преимущество во время дебатов в Бурбонском дворце.
Сильно накрахмаленные манжеты выглядывали у Робера Стена из рукавов пиджака; он чуть склонился над бокалом хорошо охлажденного шампанского, помешивая его палочкой из слоновой кости, чтобы выпустить газ, и слушал Лашома.
Марта Бонфуа задержала на узловатых пальцах «близкого друга» один из тех меланхолически нежных взглядов, в которых проплывают воспоминания о былых страстях.
– Ну что же, друзья мои, Руссо – дурак, о чем я знал и раньше, и ты был абсолютно прав, Лашом, не пойдя за ним.
Согласно парламентскому обычаю Лашом и Стен были на «ты», испытывая, правда, некоторую неловкость и придерживаясь известных различий: Стен всегда называл Симона по фамилии, а Симон, обращаясь к Стену, говорил: «президент».
Марта призналась, что не понимает, как кто-либо, пусть даже Стринберг, один может одолжить Франции сумму, достаточную для того, чтобы выровнять ее бюджет и восстановить разрушения.
– На самом деле это и он, и не он, – стал объяснять Стен. – Если операция удастся, она будет произведена консорциумом банков, который зависит от Стринберга и куда Шудлер, видимо, хочет войти… Ведь подумай, Марта, дорогая, весь современный капитализм держится на двух вещах: первое – на том, что называется контролем, иными словами, на ситуации, когда акционерное общество фактически беспрекословно подчиняется тому, у кого в руках, казалось бы, немного – всего от десяти до пятнадцати процентов акций, потому что остальные восемьдесят пять или девяносто процентов разбросаны среди тысяч, а иногда и десятков тысяч людей, не обладающих решительно никакой властью; второе же – это возможность для акционерного общества получить акции другого общества и, следовательно, при случае установить над ним контроль. Такой человек, как Стринберг, не владеет ни капиталами, которыми он ворочает, ни шахтами, ни домнами, ни лесопилками, ни пакгаузами, ни кредитными учреждениями – словом, ничем из того, что составляет его могущество. Все это он контролирует. Он владеет десятью процентами акций десяти или двенадцати наиболее крупных акционерных обществ Европы, каждое из которых в свою очередь контролирует десяток других и т. д. Он как сюзерен, находящийся наверху пирамиды вассальной зависимости. Он мог бы, если бы захотел, чеканить монету, печатать банкноты со своим изображением и пользоваться – а он наверняка и пользуется – преимуществом экстерриториальности. Он – Лотарь III или Карл V[19], живущий в гостиничном номере.
Он умолк и взглянул на Марту, проверяя, не стало ли ей скучно. Но Марта Бонфуа обладала талантом внушать мужчинам уверенность в их гениальности.
– Все-таки это чудовищно, – проговорил Симон, – ведь в конечном итоге подобное всевластие зиждется, с одной стороны, на горбу мелких вкладчиков, а с другой – на труде тысяч рабочих, докеров, шахтеров…
– Ну разумеется, чудовищно! – отозвался глава партии, пожимая плечами. – И поэтому, будь я в твоем возрасте и начинай я сегодня политическую жизнь, ты увидел бы меня, по всей вероятности, не в центре, а на левой стороне зала заседаний.
И он посмотрел на Симона с тем видом всепрощающего упрека, какой бывает иногда у людей на вершине их карьеры по отношению к молодым, избегающим роли бунтарей, традиционно отведенной для них.
– Только не нужно преувеличивать, – продолжал Стен. – Мы в парламенте, безусловно, защищаем мелких вкладчиков. Это согласуется с нашими интересами и является нашим долгом. Но абстрактно они не слишком меня трогают. Капитализм сделался экономической системой для перестраховщиков. Все надеются на прибыль, стараясь, насколько возможно, избежать риска. Не было еще случая, чтобы к любому рычагу власти, тотчас по его появлении, не протянулась какая-нибудь рука, стремясь за него ухватиться. И неизбежно люди авантюрного склада, если не авантюристы, наступают на безликий плебс – на кротких мелких игроков. Иными словами, на всех тех, кто захотел обогатиться, ничего не делая, или сохранить все, что у них есть, ничего не производя, тех, кто рассуждает о знаменитых «банковских пиратах» и всемогущих финансистах… – Он встал, прошел к камину, постучал по своему портрету и произнес с иронией: – Да, в то время я был молод и хорош собой. – Затем он обернулся, раскинул руки на зеленой мраморной доске за его спиной и, чуть подавшись вперед, заявил: – В том, что капитализму суждено исчезнуть, сомневаются только дураки, ибо все в конце концов умирает: цивилизация, нации, государства, религии. Любая привилегия, которая перестает оправдывать работу или риск, в конце концов приводит к гибели ее обладателей… Но сколько времени она еще продержится? Вот это уже другой вопрос!.. Мне, скажем, в тридцать лет поставили диагноз болезни сердца, а я все еще с вами…
У Стена был красивый голос, самодовольный, но теплый, с множеством обертонов, точно интонирующий фразу. С места, где он стоял, взгляд его свободно проникал в пенистый вырез халата Марты.
– Господи, до чего у тебя красивая грудь, – произнес он.
В этой элегантной, изысканной, удобной квартире собрались три человека, чье влияние, решения, действия имели большое значение для жизни империи в сто миллионов жителей: эти три человека ясно видели все пороки своего времени, но не решались доходить в своих рассуждениях до окончательных выводов из страха вынести приговор самим себе вместе с обществом, которым они управляли.
Умудренные опытом могильщики довольствовались тем, что предавали режим земле, окружая его цветами, дабы заглушить запах тления.
– А возвращаясь к Стринбергу… – продолжал Стен. – Люди его уровня, которых лишь несколько во всем мире, как мне кажется, не подпадают уже под утвердившееся за ними определение «финансист». Спекуляции их восходят к высшим законам математики, к формальной логике или деспотизму. Но в то же время они подчиняются романтическому представлению о самих себе. Ты так не думаешь, Лашом?.. Авантюристы, пробравшиеся в диктаторы, но вознесшиеся слишком быстро для того, чтобы основать династию, да и слишком занятые собой, чтобы этого желать… попирающие законы, сосредоточенные на созерцании своего могущества, они теряют контакт с реальностью и забывают в конце концов, что их колоссальное влияние зиждется все-таки, как ты сказал, на хлебе, который кто-то молотит, на металле, который кто-то плавит, на товарах, которые переходят из рук в руки, на кораблях – словом, на труде людей и на их нуждах.
Робер Стен сел на своего конька. Неисправимый говорун, способный слушать себя до бесконечности, строивший речь как профессиональный адвокат, привыкший к политическим собраниям и прениям в парламенте, он всегда готов был без подготовки с блеском выступить на любую тему.
Симон не упускал ни единого слова из того, что говорил «президент»: он наблюдал еще более блестящую, более высокую работу мысли, чем его рассуждения, и обогащал темы своих будущих выступлений.
– И вот в один прекрасный день, – продолжал Робер Стен, – реальности, в которых эти поэты власти денег не отдают уже себе отчета: насыщение рынка, бесполезность демпинга, падение покупательной способности, отсутствие сбыта продуктов, кризис занятости, революция или голод в какой-либо точке планеты, а кроме того, зависть соперников и нетерпение подчиненных – приводят к тому, что почва внезапно ускользает у них из-под ног и сталкивает их с вершины бумажной пирамиды, вроде того как ружейный выстрел в голову поэта прерывает поток его стихов и обрекает их на бессмертие. У меня есть немалые основания полагать, что Стринберг близок к катастрофе такого рода, к одному из тех крушений, о которых говорят: «Да как же это возможно?» – тогда как оно было крупными буквами начертано в его судьбе. Он проводит сейчас такие же операции, какие принесли ему успех в начале карьеры. Почему, ты думаешь, Стринберг так настойчиво стремится войти в доверие к Шудлеру? Да потому, что он, Стринберг, и никто другой, придумал эти знаменитые сообщества, чтобы параллельно иметь возможность создать кооперативы покупателей, сбыть продукцию той промышленности, какую он контролирует. Ты улавливаешь механизм? Но когда главнокомандующий, вновь встав во главе своих войск, берется выполнить обязанности лейтенанта, поражение – не за горами… Со своей стороны, Шудлер на склоне лет, уже не обладая столь ясным умом, решил пуститься в игры Стринберга.
Стен умолк, допивая вино.
– Если хотите знать мое мнение, – заключил он, – и Стринберг, и Шудлер сейчас в очень плохом положении, и каждый из них надеется выкарабкаться с помощью другого, с той только разницей, что Шудлер рассчитывает на одного Стринберга, а Стринберг – на шесть или семь таких Шудлеров. Но рухнут они вместе, и этот дурак Руссо вместе с ними.
Было два часа дня. Робер Стен, запечатлев долгий поцелуй на руке Марты, вышел из ее дома, и Лашом из приличия спустился вместе с ним. На набережной, возле машины, где шофер, очнувшись ото сна, вздрогнул, глава партии сказал Симону:
– Давай, дорогой мой Лашом, иди к ней, к нашей божественной Марте. Со мной нечего таиться… Я рад. Мне кажется, сейчас она счастлива…
На следующий день Симон Лашом позвонил Анатолю Руссо, чтобы сообщить, что после долгого разговора с Ноэлем Шудлером он считает дело с займами не менее надежным, чем дело с займом Стринберга.
В проходной театра де Де-Виль администратор, госпожа Летан, стояла перед Вильнером и читала ему длинный список имен.
Вильнер, склонившись над отпечатанным планом своего театра, слушал, качая головой, и цедил:
– А маркиза де Гётвиль?
– Два места. Где хотите, но лучше в глубине.
– А барон Глюк?
– О! Одно место, даже нет, половина. Он ведь такой крохотный. Откидное! И то если хватит мест для всех критиков. Но ведь он придет в любом случае, пригласим мы его или нет.
Пьеса, где у Сильвены Дюаль была второстепенная роль Эстер Могар, только что сошла с репертуара. Ее должна была сменить другая пьеса – «Купорос», в которой Сильвена играла уже главную роль, – вот Вильнер и рассаживал приглашенных на генеральную репетицию.
Дело это чрезвычайно деликатное, и Вильнер продумывал каждую деталь с не меньшей тщательностью, чем постановку мизансцен. Никто не умел так, как он, рассредоточить поклонников по разным точкам зала, посадить любовников рядом с парой законных супругов, поместить обладательниц красивых плечей в первый ряд балкона, а главное, главное – обласкать редакторов и ведущих критиков.
– Госпожа Этерлен?.. Надо же, как она попала на букву «Л»? – заметила госпожа Летан.
– Но вы же знаете, она была любовницей де Ла Моннери, а потом – Лашома. Не надо: вычеркните! Она уже ничья любовница. – Он выпрямился, развел руками и произнес: – Sic transit…[20] Да, вот так и проходит слава недостойных!.. И госпожу де Ла Моннери – тоже! – добавил он. – Ну зачем? Она старая, глухая. А наши три ряда для глухих уже полны.
Так перед генеральной репетицией каждой пьесы Вильнера из списков вычеркивалось несколько имен, «отправленных на кладбище еще при жизни», как говаривал он сам, а вместо них появлялись имена новые, «восходящие звезды», – таким образом, по этим спискам легко можно было проследить превратности судьбы и изменчивость успеха в Париже за последние сорок или пятьдесят лет.
– Да! Пока я тут размышлял, барон Шудлер предупредил меня, что приведет с собой Стринберга. Великое событие, ибо, кажется, Стринберг никогда в жизни не был в театре. Дайте мне ближайшую к сцене ложу, справа! Им будет видно плохо, зато их – хорошо.
В эту минуту появилась возбужденная, счастливая, взволнованная Сильвена в голубом жакете, отороченном черно-бурой лисой. Она нервничала перед выходом в своей первой большой роли.
– Ну вот, Эдуард, дорогуша!.. – воскликнула она.
Холодный и злобный взгляд Вильнера пригвоздил ее к месту.
– …Простите, дорогой мэтр, – вымолвила она, сделав некое подобие реверанса, – сколько мест ты даешь для моих друзей?
– Нисколько. Ни одного.
– Как?! – воскликнула она.
– Ни одного! – повторил Вильнер. – Мне твои друзья не нужны: это я им нужен.
– Ага! А тебе нужны все твои старые любовницы…
– Успокойся, успокойся, – проговорил Вильнер тоном, предвещавшим взрыв гнева. – В зале будет по меньшей мере человек десять, с которыми ты спала, если это доставит тебе удовольствие. Я уж, естественно, не в счет…
– Сволочь, – приглушенно, сквозь зубы, прошептала Сильвена.
Но в этом сдавленном ругательстве промелькнуло больше восхищения, чем досады, и даже известная нежность, смешанная с ненавистью. Всякий раз, как Сильвена собиралась взбрыкнуть, Вильнер осаживал ее, словно ударом лапы, и она готова была тогда и укусить эту лапу, и лизнуть…
В эту минуту сообщили о приходе репортеров, ведущих театральную хронику, которым Вильнер назначил общую встречу, как министр, организующий пресс-конференцию. Кабинет наполнился журналистами и фотографами. Госпожа Летан скромно отступила в угол. В течение нескольких минут комната озарялась бесшумными вспышками. Старый Юпитер пыжился, вскидывал брови, милостиво улыбался или делал вид, будто гневается из-за постоянных, но безобидных вспышек магния. Сделали несколько снимков – и «Эдуард Вильнер стоит», и «Эдуард Вильнер сидит», и «Эдуард Вильнер за письменным столом», и «Эдуард Вильнер, раздвинув занавески, задумчиво смотрит на Париж…».
– Еще разок для меня, господин Вильнер, это «Вог»… Могу я попросить вас в профиль, мэтр, для «Комедии»…
Сделав вид, что ей нужна зажигалка, лежавшая на письменном столе, Сильвена подошла к Вильнеру, чтобы попасть в кадр рядом с ним. Притом подтолкнуло ее не только тщеславие, но и избыток чувств.
– Назад, фиглярка! – цыкнул драматург, отталкивая ее своей большой дряблой рукой. – Тебя будут снимать на сцене, с актерами.
Вот на этот раз Сильвена действительно обиделась.
Затем Вильнер ответил на вопросы репортеров и разъяснил сюжет пьесы. «Купорос» – это деньги, подносимые, точно чаша с ядом, к устам человечества, они растворяют все: чувства, страсти, семьи и в конце концов разъедают, уничтожают тех, кто владеет ими. Действие происходит в семье банкиров.
– Что касается исполнителей, я имею удовольствие представить в главной женской роли молодую актрису, которая уже играла у меня в театре: в этой пьесе, мне кажется, она станет открытием.
Никто бы никогда не подумал, что Сильвена стоит тут, в нескольких шагах от него.
Оттиснутая в другой конец кабинета молодым журналистом – любителем сенсаций, Сильвена, жеманясь, отвечала:
– М-м… Ну, вот… Ну, значит… На сцене я выступаю восемь лет… Да, я начала очень рано. Играла в «Варьете», в «Ар»…
По мере того как, перечисляя театры, Сильвена приближалась к дням нынешним, она обретала уверенность, называла даты, приукрашивала факты.
– Но только с тех пор, как я работаю с Эдуардом Вильнером, к которому я испытываю колоссальное восхищение, колоссальную благодарность, – продолжала она, искоса бросив взгляд на тирана, – я чувствую, что стала понимать, что такое настоящий театр. Я столько ему должна… в смысле… я колоссально ему обязана за то, что он поручил мне потрясающую роль Эммы в «Купоросе», где я надеюсь выступить достойно…
Она была искренна в своей банальности и даже взволнована. Досада, оставшаяся от слов Вильнера, прошла: Сильвена говорила для прессы, и некоторые вещи, поданные высокопарным тоном, воспринимались совсем иначе.
Вильнер украдкой наблюдал за ней и, перехватив какие-то обрывки ее фраз, подумал: «Жалкая сучка!»
Как и всякий раз, когда Вильнер задерживал на Сильвене свой особый жесткий и испытующий взгляд, радость актрисы гасла, и она пыталась сообразить: «Что же я опять плохого сделала?»
На самом же деле Вильнер был сверх меры измучен Сильвеной. Все, что вначале ему казалось в ней свежим и привлекательным, теперь представлялось невыносимым. Сильвена заняла в его жизни слишком много места.
Он вычислял время, оставшееся ему для скромного использования своих мужских возможностей, и подсчитывал число новых женщин, которых он еще мог для себя открыть, познать их, любить. Осиная назойливость Сильвены мешала ему находить этих незнакомок, этих последних жемчужинок или последних бисеринок, которые могли бы украсить его старость.
Сильвена перестала выполнять отведенную ей функцию: ее вытянутое рядом с ним тонкое обнаженное тело уже не усмиряло тоски Вильнера при виде собственного живота, возвышавшегося, словно купол мечети, с увядшей, истонченной, омертвевшей кожей и глубоким пупком, через который в него вливались когда-то материнские жизненные соки.
Он больше не желал Сильвены и, несмотря на преклонный возраст, сохранил тот незыблемый принцип, что нужно расставаться с женщиной, лишь только перестаешь чувствовать влечение к ней.
Но он позволил молодой актрисе прилепиться к нему как лишай: более того, она была необходима ему для пьесы. Сильвена уже стоила Вильнеру много времени и кое-каких денег, а он был не из тех людей, кто легко соглашается на потерю вкладов.
– Ах! Милейшая Летан, – говорил он администраторше, – я, видите ли, всегда становлюсь жертвой чувств, которые ко мне питают.
Журналисты вышли из кабинета.
– Итак… мой милый Эдуард… насчет мест, мне нужно десять, – проговорила Сильвена.
– Я же сказал – нет! – прогремел Вильнер. – Твои ухажеры купят места сами. А что касается тебя, ты немедленно уберешься отсюда. И сказать тебе нечего. Ты – ничтожество. Ты существуешь только благодаря мне: и если я захочу, ты перестанешь существовать. Запомни: «Я своими руками тебя сотворил и я же тебя уничтожу!»… Кто это сказал? Я или Эсхил?
И он тихонько подтолкнул ее за плечи к двери. Затем вернулся к своему креслу, со вздохом опустился в него и на несколько мгновений задумался.
– По сути дела, – произнес он, глядя на администраторшу, но не видя ее, – все та же судьба, которая бросает любовников друг к другу, однажды их разводит. – Какой-то момент он еще размышлял, потом придвинул записную книжку. – Вот вам и сюжет для новой пьесы – то, что я сейчас сказал, – добавил он. И вдруг вернулся к безотлагательным проблемам: – Так что, Летан, сколько человек мы приглашаем на ужин после генеральной? Шестьдесят, семьдесят человек… По три бокала шампанского на каждого. Не больше. Поскольку всегда находится кто-то, кто не пьет… А вам остается только подсчитать, из расчета, что в бутылке восемь бокалов.
Пьеса началась несколько минут назад. Внимание зрителей отвлекали лишь приглушенные извинения опоздавших, которые пробирались на свои места.
Внезапно занавес упал, и в зале дали свет – чуть зловещий, вполнакала, расползшийся по голым плечам, чередовавшимся с плешивыми головами, по жемчужным колье в три нитки и крахмальным воротничкам.
– Что все это значит? – спрашивали кругом.
На сцене никто как будто бы не падал в обморок.
Может быть, за кулисами что-то загорелось? Люди с развитым воображением стали поглядывать на двери. Впечатлительные натуры, вспомнив о пожарах в Опере и «Благотворительном Базаре», приготовились кричать: «Женщины, вперед!» Политические деятели, присутствовавшие в зале, сразу же подумали о покушении.
Раздвинув бархатный занавес, появился Эдуард Вильнер в двубортном смокинге и вышел вперед к рампе.
Мертвая тишина воцарилась под высокими сводами театра де Де-Виль.
– Дамы и господа, – проговорил Вильнер голосом, в котором проскальзывали нотки сдерживаемого бешенства, – исполнители, сыграв начало этого действия в полном несоответствии с моими указаниями, имеют честь повторить его перед вами.
У одних слова Вильнера вызвали вздох облегчения, у других – смех, у третьих – восхищение. Снова стало темно.
За кулисами Сильвена в слезах, почти в истерике, опираясь на руки артистов, вопила:
– Так не поступают! В вечер генеральной с актрисой так не поступают!
– Генеральная репетиция – это продолжение работы! – кричал Вильнер.
Он постучал пальцем по часам-браслету.
– За десять минут действия вы умудрились потерять на тексте три минуты, – вы просто мерзавцы. Да при таком темпе пьеса продлится часа четыре.
– Но я же волновалась! – простонала Сильвена.
– А мне плевать!
– Нет, нет и нет! Я не выйду на сцену. – Она дрожала, потряхивая волосами.
– Хорошо, превосходно, – отрезал Вильнер, – пусть зовут второй состав.
Тогда Сильвена взяла себя в руки и со жгучей ненавистью поглядела на Вильнера.
– Не ради тебя, можешь мне поверить, – проговорила она. – А потому, что у меня есть чувство профессионального долга.
Занавес взлетел, и Сильвена вышла из-за кулис. Подхлестываемая яростью, она выстреливала реплики, как пули из ружья.
– У этой малышки голос, как у Сары, – прошептал крохотный барон Глюк, приподнимаясь, чтобы дотянуться до уха соседки.
Пьеса выигрывала и в правдивости, и в эмоциональной силе: зрители забыли, что находятся в театре, а в Сильвене внезапно открылась та способность, которая зовется «присутствием на сцене» и без которой актер – не более чем картонная кукла.
При помощи голоса, жестов, пластики молодой любовницы и благодаря таинственным волнам, исходившим от нее, драматург оторвал зрителей от реальности и увел их в созданный им мир.
А он все это время ходил взад и вперед, поглядывая на хронометр, заходил в зал, проверяя пульс аудитории, возмущался по поводу двух пустых мест, старался разглядеть в полутьме ложи номер шесть Марту Бонфуа и госпожу Стен, а за ними – главу партии и Симона Лашома.
Он едва не убил зрителя, который вдруг закашлялся. Он ведь тоже по-своему волновался.
Сильвена доиграла акт в том же напряжении, в каком начала его, и зал искренне и увлеченно устроил ей долго не стихавшую овацию.
Толпа растеклась по коридорам.
Мужчины медленно прохаживались, чуть наклоняясь вперед; в своих черных фраках и накрахмаленных рубашках все они, как один, походили на пингвинов перед спариванием с самками других пород пернатых.
Однако пингвины эти и птицы невообразимой расцветки олицетворяли все, что было на земле самого изысканного, самого утонченного в области духа: восемьсот человек, находившиеся в театре, определяли вкусы, успех и моду для остальных представителей белой расы, и их платья, драгоценности, эстетические теории и суждения ожидались с нетерпением и копировались в Лондоне и Риме, Нью-Йорке и Стокгольме, Белграде и Буэнос-Айресе. Не всех можно было назвать выдающимися личностями, но в целом здесь собрались люди весьма незаурядные.
Это общество знало толк в блюдах, отдававших легким душком. Вероятно, в какой-то степени ему удается противостоять полному распаду, поскольку вопреки тому, что возвещают каждому поколению, оно вот уже два века сохраняет – пронося его через все революции, разорения и войны – свой высокий уровень и превосходство своих взглядов.
Впрочем, там можно было увидеть и достаточное число иностранцев, вернее, интернационалистов из тех, кто знаком со всеми столицами мира, но кого неодолимо притягивает, подобно зеркалу, или манку, или смоле, площадь Согласия и кто, сохраняя свою национальность и паспорт, становится парижанином по облику и образу мыслей.
Единственным, кто выбивался из этой толпы, был Стринберг. Он прогуливался в обществе барона Шудлера: на пластроне у него красовались две жемчужины величиной с яйцо дрозда, и он едва заметно прихрамывал в своих огромных шнурованных ботинках. Трудно было понять, нравится ему здесь или просто интересно. Он курил гигантские сигареты с длинным золотым фильтром, которые выбрасывал после четырех затяжек. И внутренняя охрана театра, вместо того чтобы вежливо попросить его курить в вестибюле, нагибалась и подбирала с ковра золоченые следы миллиардера.
– Вы видели руку Шудлера, не правда ли, впечатляюще! – говорили вокруг.
Оба финансиста беседовали вполголоса. За ними явно наблюдали, их окружали, заходили вперед, делали вид, что заняты чем-то другим, но на самом деле только и ждали кивка, улыбки, пожатия руки. Однако было отмечено, что Лашом – один из немногих избранных, кто имел честь быть представленным великому Стринбергу, – держался в высшей степени холодно и почти сразу отошел. Тогда как Анатоль Руссо, наоборот, мельтешил, точно цирковой голубь.
А чуть поодаль Марта Бонфуа выставляла напоказ свои серебряные волосы, изумительные плечи, хрустальный смех и царственную осанку.
– Это и есть Стринберг? – шепотом спросила она Симона и Робера Стена. – Да, он, можно сказать, уже пропал, друзья мои. Я всегда это чувствую… сама не знаю по чему и в то же время по всему – по цвету лица, по взгляду…
Говорили также о пьесе и об инциденте с поднятием занавеса.
– Он был абсолютно прав, абсолютно! – заключили коллеги, у которых никогда недостало бы на это храбрости.
Критики уже обдумывали статьи, проверяя свои замечания на друзьях, – так мясники затачивают ножи, прежде чем отрезать кусок мяса.
И ни один из них не решился искренне признаться в том, что спектакль ему нравится: они пришли в театр вынести свое суждение, а главное, если удастся, блеснуть за счет чужого творчества. Что же до удовольствия – его пусть получает свет и обыватели.
Какой-то педераст в смокинге с завернутыми рукавами гнусавил:
– Ой, это же просто какашка, вернее, даже мусс из какашки, как внутри гусиной печенки – мусс из гусиной печенки.
Но вот прозвонил звонок, перекрывший его кудахтанье, и пингвины об руку с прочей птицей двинулись на свои места.
Когда открылись декорации второго акта, по залу прошел шепот, и множество глаз невольно обратились к первой от сцены ложе, где сидели оба финансиста. Ибо декорации представляли собой с точностью, близкой к шаржу, интерьер особняка Шудлеров.
Париж умел оценить иронию, и декорации вызвали аплодисменты. Однако по мере того как разворачивалось действие, сходство становилось все более ощутимым – по ходу пьесы отец, ревностно охранявший свою власть, подстраивал разорение и смерть сына.
Казалось, Вильнер посадил Шудлера в первую ложу для того лишь, чтобы лучше представить публике модель.
Драматург расхаживал по коридору, за закрытыми дверями зала, но в какой-то момент, заглянув внутрь, он вдруг заметил в шестом ряду партера прелестную одинокую женщину, супругу чиновника с набережной д’Орсе.
Он позвал администраторшу.
– Милая Летан, окажите-ка мне одну услугу, – проговорил он. – В следующем антракте разыщите вон ту очаровательную даму, обворожительное создание, видите, вон там… ее зовут госпожа Буатель, у нее, бедняжки, такой грустный вид, я прямо смотреть на это спокойно не могу… так вы посадите ее в мою ложу. И скажите, что я настаиваю. А потом велите принести ей цветы.
– Но где же я сейчас их найду, господин Вильнер?
– А я откуда знаю… подумайте. Кстати говоря, вы можете взять их в уборной Сильвены… Она их столько получила сегодня!
В третьем акте, когда Вильнер уже уверился в успехе пьесы, он, как обычно, вошел в первую ложу слева от сцены, чтобы можно было сказать: во время генеральной автор сидит в зале так же спокойно, как если бы он присутствовал на репетиции чужой пьесы.
Он нашел там молодую, стройную и хрупкую госпожу Буатель, крайне смущенную, забившуюся в самый темный угол ложи с охапкой гладиолусов, лежавших у ее ног.
– А где ваш муж? – спросил он тихо.
– Он страшно огорчен. Но ему пришлось уехать… его вызвал министр.
– Ах, ну да… прекрасно. Сразу видно, что Республика – в надежных руках.
Он собрал цветы и положил ей на колени. Затем, нежно обняв молодую женщину за талию, он принялся шептать ей в самое ухо:
– Вы поразительно хороши… Сегодня вы здесь прекраснее всех… Без вас мой успех не имел бы для меня никакой ценности. И я понимаю, что это произведение я создал ради вас. Я дарю вам его.
Он был полон решимости осыпать ее подарками, которые ему ничего не стоили.
Хорошенькая госпожа Буатель, совсем еще неопытная, почувствовала себя несчастной и смутилась до слез.
– Прошу вас, – вдруг сообразив, произнесла она шепотом, – дайте мне послушать: это так прекрасно!
В это время Сильвена отбивалась от последних «атак купороса». Заключительную сцену она вела с такой яростной, безудержной силой, что не оставляла зрителям времени хлопать себя по карманам в поисках номерка от вешалки или ключей от машины. Это был подлинный успех…
За несколько мгновений до конца пьесы Вильнер прошел за кулисы.
Занавес упал. Зал разразился аплодисментами. Актеры тщательно подсчитывали число вызовов.
Сильвена вышла на рампу и голосом, дрожащим от волнения, сказала:
– Пьеса, которую мы только что имели честь в последний раз репетировать перед вами, написана господином Эдуардом Вильнером.
Казалось, это объявление явилось для всех сюрпризом и величайшим открытием, аплодисменты разразились громче прежнего. А люди, которые скажут или напишут о пьесе больше всего гадостей, старательнее всех кричали: «Автора! Автора!» Тогда появился Вильнер, великолепный в сознании своего превосходства, наслаждаясь апофеозом завершенного творения, упиваясь взрывами аплодисментов, доходившими до него, как, вероятно, доходит до Зевса шум дождя, стучащего по склонам Олимпа; раз в год он нуждался в этом, чтобы жить и творить дальше.
Он подошел к Сильвене, взял ее за руку, вывел вперед и показал народу нового идола, новую смертную, которую он, оказав ей честь и возжелав ее, сделал богиней.
А Париж получил новую большую актрису и восторженно ее приветствовал.
Затем толпа устремилась в ризницу, иными словами, за кулисы. По узкой винтовой лестнице, по почерневшим железным ступеням между грязными стенами, где застыла странная смесь запахов грима, пыли, супа и мочи, мужчины во фраках, женщины в бархате и атласе, приподнимая унизанными кольцами руками длинные юбки, спешили, стараясь пробраться первыми.
Крохотный барон Глюк – «капля воды, в которую вставили монокль», как говорил Вильнер, – подпрыгивал, приседал, проскальзывал между коленями и локтями и прибыл, как чемпион, во главе толпы. Он был страстным любителем, маньяком театра: он знал всех актеров и актрис. Каким-то чудом его можно было увидеть во всех ложах одновременно и слышать, как он всюду гнусаво повторяет преувеличенные похвалы.
– Ты была божественна, милочка моя, божественна! – клялся он Сильвене. – Истинная Сара, или Рожон, или Барле… нет, еще лучше, ты – это ты!
– Правда? Вы говорите это не просто из желания доставить мне удовольствие? – отвечала Сильвена, закормленная комплиментами.
Барон Глюк удивился, не увидев в уборной Сильвены большого букета гладиолусов, который он послал ей: но он был очень близорук, монокль не слишком помогал ему, и к тому же толпа увлекла его дальше, к уборной Ромена Дальма, игравшего сына.
– Гениально, малыш, ты был просто гениален…
Эдуарду Вильнеру, который задыхался, прижатый к какой-то стенке, пришлось призвать на помощь всю тяжесть своей массы, чтобы противостоять напору восторгов.
– Что, правда?.. Правда?.. Вам понравилось? Ну, я очень рад, – повторял он.
По тому, как критики пожимали ему руку, по взглядам коллег он догадывался о содержании завтрашних статей.
– Как зовут актрису, которая играла главную роль? – спросил у него какой-то очень старый господин с кожей, походившей на сморщенный пряник, и обручем от слухового аппарата, пересекавшим голову.
– Сильвена Дюаль, дорогой герцог.
– Что? Как? – И он поднес к губам Вильнера маленький микрофон от своего аппарата, чтобы Вильнер повторил.
Педераст в смокинге с завернутыми рукавами прошел мимо, показав рукой, что у него от волнения перехватило горло.
– Не могу… это выше моих сил, – все же сумел выговорить он.
Вперед бросились дамы.
– Эдуард, я должна тебя поцеловать!
В результате на щеках Вильнера отпечатались все цвета губной помады, выпускаемой в Париже.
– Ты останешься, – шептал он некоторым. – Выпьем немножко. Только не говори другим – пусть будут только свои.
Время от времени он выглядывал поверх голов, словно разыскивая кого-то. Увы! Очаровательная, наивная, деликатная молодая жена чиновника с набережной д’Орсе исчезла.
– Итак, дети мои, я голоден! – объявил Вильнер, когда поток наконец иссяк, оставив после себя лишь пену верных почитателей.
Драматург уже не мог слышать тех, кто, выйдя на улицу, подводил итоги:
– В сущности, мы неплохо провели вечер.
А некоторые, еще не совсем уставшие, отправились на последний сеанс в один из кинотеатров на бульварах, где показывали невероятную, фантастическую вещь – один из первых звуковых фильмов, а точнее, второй, под названием «Заживо погребенные», где можно было услышать, как люди, замурованные в подводной лодке, молотят кулаками по корпусу, отвечая спасателям.
В двух специально подготовленных кабинетах избранная публика вместе с актерами истребляла сэндвичи с гусиной печенкой, холодных цыплят и пирожные; госпожа Летан в который уже раз поняла, что трех бокалов шампанского на человека недостаточно.
Вильнер любил сборища после генеральной, где вокруг него продолжала кипеть атмосфера успеха, где повторяли его же собственные слова, где его поздравляли с такой-то удачной сценой или такой-то репликой, с таким-то неожиданным эффектом, – и оттягивалась минута, когда ему придется остаться наедине с собой. Правда, в тот вечер он получил столько же комплиментов по поводу Сильвены, сколько по поводу «Купороса», и, хотя она тоже была детищем Вильнера, его это начинало немного раздражать.
– Дорогой Эдуард (близость обоих с Мартой Бонфуа позволяла молодому депутату эту вольность), дорогой Эдуард, – говорил Симон Лашом, – как вам повезло! Она прелестна, великолепна, она сделает прекрасную карьеру.
– Она вам нравится, мой мальчик? – проговорил Вильнер. – Так в чем дело, не стесняйтесь. Не упустите удачу, вернее, я хочу сказать, дайте ей возможность не упустить свою. Уверяю вас, вы очень ее интересуете. Да, да, уверяю вас.
Лашом немного опешил.
– Слушайте, вы шутите! – сказал он. – Все знают…
– Что? Я?.. Да что вы, дорогой! – воскликнул Вильнер. – Да нет: я же старик. Только профессиональный интерес. Я не отрицаю, что так, мимоходом…
И они принялись обсуждать свои любовные привычки. Вильнер объявил, что не может уже выносить, когда женщина просыпается в его постели.
– А вы как поступаете? – спросил он.
– О! Всегда предпочитаю у них и никогда у меня, – ответил Симон. – Это избавляет от выяснения отношений и сохраняет массу времени. Так что предпочитаю уйти хоть в четыре утра…
– Да, да, да, – подхватил Вильнер, кивая массивной головой. – Но вы-то молодой. А вот с возрастом – увидите сами, уже сил нет среди ночи снова натягивать брюки.
– А Шудлер, как он реагировал? – прервав их, спросил кто-то у Вильнера. – Он, верно, в ярости. Надо признать, вы перегнули палку!
– Ну ясно, что к этой пьесе есть ключ, – произнес еще кто-то. – Об этом уже шумит весь Париж!
В сотый раз после окончания второго действия Вильнер со всех сторон слышал: «К этой пьесе есть ключ… к этой пьесе есть ключ… Это ведь Шудлер, правда?.. Ну, признайтесь, что это Шудлер…»
Драматурга одолела злость, ему показалось, что его творение хотят принизить, низведя до простой светской сплетни, и вдруг, держа наполовину обглоданную куриную ногу и перекрывая гул гостей, он дал выход своему великому гневу.
– Что это значит: к этой пьесе есть ключ? – воскликнул он. – К каждой пьесе есть свой ключ. К пьесам Расина тоже есть ключ. Разве его «Александр», например, который, вообще-то говоря, просто плох – за исключением двух сцен, – не списан целиком с Людовика XIV? А романы? Ко всем романам – свой ключ. Бальзак. Толстой… А уж Толстой даже не давал себе труда переделывать имена. Менял одну букву и считал, что этого довольно. И если бы прототипом мне послужила моя консьержка или если бы я черпал сюжеты из газетной хроники, как Стендаль и десятки других, вы не стали бы говорить, что к этому произведению есть ключ, просто потому, что модели были бы вам незнакомы. Да и что значит «модели»!.. Это то же самое, как скульптор создает свою Венеру, глядя на женщину, у которой разной высоты груди и дряблая задница. Ибо у всех у вас, милые дамы, – продолжал он, потрясая куриной ногой, – голову даю на отсечение, разной высоты груди! И если вы все спустите лифчики, вы увидите, что я прав.
Все смолкли: Вильнера слушали с насмешливым удивлением, выжидая, куда его занесет.
– Только нам, в отличие от скульпторов, требуется десять моделей, чтобы создать прототип. Что вас забавляет? Что вас трогает? Что вам необходимо? Модель правды? Мы работали с тем материалом, который нам предлагается, и наше абсолютное право использовать его по нашему усмотрению. В конечном счете, знаете ли, есть лишь два способа творить – глядеть либо на собственный пупок, либо на соседский. А написать стоящее произведение можно, лишь глядя на оба сразу… Пьеса с ключом – это историческая пьеса, где действуют ваши современники. И зарубите себе на носу: вы будете существовать лишь в той мере, в какой мы того захотим, ибо в наших пьесах, в наших книгах, а не где-то еще и не на ваших надгробных плитах станут искать имена, которые вы носите, обстановку, в которой вы живете, и даже то, как вы спите друг с другом. Так что славьте нас за то, что мы продлеваем ваше существование, вынося его за пределы жалких возможностей вашего бренного тела. А коль у вас полно бородавок, пеняйте на ваш генетический код, а не на нас!
Удовлетворенный своим последним наглым заявлением, Вильнер расправил грудь и набрал воздуха в легкие. Глядя на всех этих людей, которым он предоставил возможность бесплатно посмотреть свою пьесу и которые теперь пожирали его пирожные, Вильнер вдруг почувствовал неодолимое желание пинком под зад вышвырнуть их на улицу.
Все стали оправдываться, стараясь его успокоить.
– А хотите знать, что мне сказал Шудлер? – добавил он через какое-то мгновение. – «Мой дорогой, ведь вы тут изобразили Леруа-Мобланов. В самом деле, замечательно!..» Вот так-то, видите?!
Сильвена опьянела. И не потому, что выпила слишком много шампанского. Но в сочетании с нервным напряжением, волнением, усталостью, успехом это привело к тому, что она несколько потеряла над собой контроль. Голос у нее звучал как на сцене, по-прежнему слишком громко, слишком чеканно: она то и дело вспоминала инцидент с поднятием занавеса, говорила глупости, топала ногами и трясла гривой рыжих волос.
– Ну вот! Сама видишь, насколько я был прав! – сказал Вильнер, с отвращением глядя на нее.
Избранные расходились, выражая последние восторги:
– Эдуард, вечер получился незабываемый…
– Скажите, дорогой, – обратился Вильнер к Лашому, спускаясь с последней группой, – вы не могли бы по дороге домой проехать через район, где живет это прелестное дитя, – через Неаполитанскую улицу?..
– Да, конечно, разумеется, – ответил Лашом, который жил совсем в противоположной стороне, у Трокадеро.
Все складывалось как нельзя лучше, к тому же Марта Бонфуа давно уже уехала в сопровождении четы Стен.
– О! Как же это, Эдуард?! – прошептала Сильвена.
Пьяная, благодарная и, быть может, впервые по-настоящему влюбленная в Вильнера, она прижималась к нему, спускаясь по винтовой лестнице, и пачкала гримом прекрасный белый шарф своего старого любовника. Она надеялась закончить вечер как полагается, чтобы радость была совершенной, полной и в равной мере коснулась всего ее существа.
– Нет-нет, малыш. Шофер страшно устал. Я хочу, чтобы он ехал спать. А наш друг тебя довезет.
При других обстоятельствах такая забота о слугах могла бы показаться Сильвене странной.
На улице она предприняла еще одну попытку продлить праздник.
– А если нам пойти куда-нибудь выпить еще по стаканчику? – предложила она.
Вильнер покачал головой.
– Я, друзья мои, – сказал он, – просто валюсь с ног, хочу спать, да и успех – вещь нелегкая. Я еду домой. – И совсем тихо, обращаясь к Симону, с неподдельным чувством пожимая ему руку, он выплюнул, как из водосточной трубы: – Спасибо, дорогой, вы оказываете мне большую услугу.
Наслаждение отрезвило Сильвену, и натянутые нервы погрузились в сладкую счастливую истому. Разумеется, Симона нельзя было назвать героем ее романа, но после многих месяцев верности Вильнеру он явился для нее воплощением молодости и новизны.
Симон и Сильвена воскресили в памяти ночь, проведенную вместе семь лет назад в этой же самой квартире после избрания Эмиля Лартуа во Французскую академию.
Но в тот вечер пьян был Симон.
– Что же мы делали тогда? – спросил Симон.
– Как? Ты не помнишь?
Обращение на «ты» установилось между ними очень легко, так же легко, как прекратилось на исходе ночи.
Да… Симон Лашом вспоминал. Вернее, он восстанавливал в памяти те обрывки воспоминаний, какие опьянение закладывает в сознание глубже всякого другого состояния, рядом с провалами и пустотами, заключенными в скобки. Он узнавал эту комнату, но на стенах тогда вспыхивали золотые звезды разной величины, которых он сейчас не находил.
– Скажи, ты не меняла обоев? – спросил он.
– Нет. Хотя давно бы уже пора. Надо мне этим заняться, – ответила она, закинув руку на затылок и приподнимая прекрасные медные волосы.
А он вспомнил еще и два тела, лежавшие в объятиях друг друга на той же кровати, – тела Сильвены и Моблана; вспомнил и себя – он лежал на диване и ел крутое яйцо.
– А потом я, помню, увидел перед собой твои груди. Ошибаюсь?
– И все? – усмехнувшись, прошептала она.
Симон откинул простыню, посмотрел на прелестные груди Сильвены, проверил, одинаковой ли они высоты.
– Это было в ту ночь, когда я заставила беднягу Люлю поверить, будто он сделал мне детей.
Теперь, когда Моблан уже много лет лежал в земле, после того как она ускорила его разорение, безумие и саму смерть, Сильвена называла его «бедняга Люлю»!
– Да нет, в сущности-то он был скотиной, – сказала она. – А! Не стоит обо всем этом говорить. Все это ужасно, гнусно – словом, жуткий период в моей жизни. Я хотела бы никогда больше о нем не вспоминать, насколько лучше было бы нам встретиться… вот так… впервые, – ласково добавила она.
– Но это и есть впервые, – ответил он так же ласково, тем более что это ни к чему его не обязывало.
Она подумала, что положительно ей на роду написано спать с мужчинами, которым она когда-то уже отдавалась и которые не помнят или почти не помнят об этом. «Как же я изменилась и до чего была неинтересна тогда…» И он тоже думал, что судьба повторяется и сводит их в вечера триумфов, притом он всегда принимает ее из рук старика. На самом же деле повторы судьбы означали лишь желание, свойственное всему роду людскому, – вести себя определенным образом в одинаковых ситуациях.
Погруженный в раздумье, сидя на краю кровати, он тихонько ласкал соски Сильвены, и по ее телу пробегала дрожь.
В этот момент в замке входной двери повернулся ключ, Сильвена подскочила, вскрикнув от ужаса.
– Эдуард, – проговорила она с искаженным лицом, прикрывая грудь простыней.
Лашом встал и инстинктивно подошел к креслу. К счастью, он успел уже надеть брюки, туфли и пристегнул к рубашке крахмальный воротничок, избегнув нелепого появления голышом или в исподнем.
Но Вильнер уже вошел в комнату. В слабом свете ночника он казался еще более крупным и угрожающим. Челюсть его дрожала. Громадные ноздри шумно, точно кузнечные мехи, засасывали воздух.
Симон, не в силах постигнуть странные, дьявольские поступки этого человека, тотчас вообразил мелодраматическую ситуацию, представил себе крики, идиотскую драку, затеянную громадным стариком, или, еще хуже, выстрел – он уже видел, как разражается скандал, негодует Марта, и испугался разом и за свою карьеру, и за репутацию, и даже за жизнь.
– Я был в этом уверен! Я подозревал! Я знал это! – вскричал Вильнер, скрестив на груди руки. – Значит, тебя даже другу доверить нельзя – ты тут же принимаешься за свое.
– Но мы же ничего не делали! – простонала Сильвена, готовая расплакаться. – Я просто легла, и мы болтали…
– О! Не смей еще к тому же лгать! – воскликнул он. И поднял руку, словно собираясь дать ей пощечину.
Сильвена прикрыла лицо локтем, а Симон подумал, не должен ли он вмешаться. Вильнер сдернул простыню, и обнаженная Сильвена разрыдалась.
– Ах, значит, голышом ты разлеглась для болтовни, да? – гаркнул он. И, повернувшись к Симону, в порыве беспредельной душевной широты сказал: – Вот на вас, мой мальчик, на вас я не сержусь, вы исполнили ваше мужское дело, ваше грязное мужское дело, и это в порядке вещей.
Только тут Симон, поняв, что все это не более чем хорошо поставленный фарс, почувствовал, как его отпустило, и одновременно испытал известное унижение.
– Но она, – продолжал Вильнер, указуя перстом на Сильвену, – эта маленькая дрянь, эта уличная девка, после всего, что я для нее сделал… выбрала такой день, когда она должна благословлять меня, когда она должна в ногах у меня валяться!.. О! Жизнь заставит тебя искупить это, ты непременно за это заплатишь, притом заплатишь дорого, потому что высшая справедливость все-таки существует…
Он играл, естественно и убежденно, сцену из собственного репертуара.
– Сотворить такое со стариком, – произнес он, тяжело опустившись в кресло, и тишина прерывалась лишь всхлипываниями Сильвены.
Пока Вильнер глядел на обнаженную рыдающую женщину и на мужчину, который только что обладал ею, его вдруг охватило совершенно неожиданное чувство, состояние болезненного эротического волнения, какое-то печальное возбуждение, гибельная мука, заполнившая его мозг и плоть.
Гнев Вильнера был притворным, зато тоска настоящей. Собственная хитрость обернулась против него.
В какое-то мгновение он пожалел, что не пришел раньше, до того, как Симон оделся, чтобы вынудить их повторить при нем акт любви. В ситуации, в какой они оказались, он был вправе требовать чего угодно. Тогда он мог хотя бы получить некоторое наслаждение, а не мучиться, как на операции без наркоза, ощущая, как нож разрезает ткани.
– Я оказался в довольно глупом положении, – через какое-то время промолвил Симон.
– Жизнь есть жизнь, мой мальчик, – отозвался Вильнер. И поднялся.
– Эдуард!.. Эдуард!.. Я не хотела причинять тебе боль, – стонала Сильвена.
– Ты же знаешь, я не прощаю, – жестко заметил Вильнер, на сей раз не притворяясь. – Я слишком уже стар. И у меня нет времени. – Он нашел наконец внутреннее оправдание, чтобы избавиться от Сильвены.
– Вы не откажете, надеюсь, отвезти меня, – обратился он затем к Симону, – отвезти старика, потерявшего последние иллюзии. Уж на эту малость я могу рассчитывать.
Они ушли, не сказав – ни тот ни другой – ни слова на прощание Сильвене.
– Я не хотел заставлять такси ждать, – сказал Вильнер, когда они ехали мимо парка Монсо к Сене. – Ночные тарифы совершенно разорительны… Вас не утомляет, что вы водите сами?
– Нет, – машинально ответил Симон, безотрывно глядя в лобовое стекло.
Они помолчали.
Вильнер вдыхал исходивший от Симона аромат духов, какими обычно пользовалась Сильвена, и запах ее тела, в определенные минуты притягивающий и вместе с тем раздражающий.
– Сколько раз вы ее имели нынче ночью? – спросил Вильнер.
Симон из мести за роль статиста, какую отвел ему в этой истории драматург, ответил: «Три», что было на треть ложью.
– А! – только и вымолвил Вильнер.
По мере того как текли мгновения, Симон чувствовал все возрастающую злость по отношению к старику. Десять раз у него готово было вырваться: «Если я был вам нужен, вы могли хотя бы предупредить меня».
– Главное, совершенно не беспокойтесь относительно нашей дорогой Марты, – сказал Вильнер. – Вы понимаете сами, что я и намеком не дам ей понять. – Он оказался настолько хитер, что, использовав Симона в собственных целях, и тут еще взял над ним верх. – Она обычно скрипит зубами от наслаждения, правда? – продолжал он. – Да, а вот у Марты всегда громкий, из глубины идущий хриплый крик…
Снова настала тишина, прерываемая лишь шуршанием шин. Рассвет прорисовывал гребни крыш, и у обоих мужчин появилось то ощущение протяженности и странности жизни, какое подстерегает нас на исходе бессонной ночи.
– Любопытно, – продолжал Вильнер, – как мы нуждаемся в том, чтобы закрепить за собой обладание существом, влечение к которому в нас уже умерло. Притом мы умудряемся портить себе этим жизнь.
Он тронул себя за подбородок, за жирный податливый комок, тихонько перекатывавшийся под его пальцами, и подумал, что, быть может, его лицо начнет разлагаться именно здесь.
На следующее утро, в день премьеры, когда в кассах продавались билеты на «Купорос», Сильвена нашла Вильнера в его кабинете. Он запретил входить к нему кому бы то ни было, даже госпоже Летан. Сцена была долгой и мучительной. Сильвена, рыдая, умоляла простить ее.
– Но я же была пьяная, – объясняла она. – Пойми, я была слишком счастлива! И я так хотела остаться с тобой. Я каждую секунду думала о тебе и мысленно все время была с тобой. Мне стыдно, мне так стыдно от того, что я сделала!..
Но Вильнер был непреклонен и позиций не сдал. По обыкновению, он острил.
– Я прожил почти семьдесят два года, не имея чести быть с тобой знакомым, – сказал он. – И безусловно, смогу обойтись без тебя то время, что мне еще осталось жить.
Он готовил реплики для своей будущей пьесы. А Сильвена давно уже чувствовала, что в его отношении к ней ничуть не меньше иронии и презрения, чем страсти: она служила мишенью для его стрел. Но она никогда не ощущала этого так явственно, как сегодня, ибо желание исчезло, уступив место одной иронии.
– Впрочем, не воображай, будто твоя вчерашняя шутка дает тебе хоть малейшее превосходство надо мной. Первым из нас двоих все равно изменил я. На следующий день после того, как ты была у меня, я имел одну молоденькую актрису прямо тут, в кабинете, а через несколько дней переспал с Инесс Сандоваль, о других же умолчу из приличия. Жизненный опыт меня научил, что через сорок восемь часов после знакомства с женщиной необходимо переспать с другой. Просто чтобы застраховать себя на будущее.
Перед Сильвеной раскрывалась вся чудовищная сущность Эдуарда Вильнера без прикрас, и все же она не могла справиться с острым чувством тоски, с потребностью вымаливать у него прощение, ибо в нем было что-то сверхчеловеческое, и внезапное его исчезновение из ее жизни вдруг показалось ей разверзшейся у ног бездной.
– Ну как мне играть сегодня вечером с такой физиономией, посмотри на меня! – сказала она, раскрывая пудреницу с зеркалом словно в доказательство того, как она опухла от слез и только прощение может вернуть ей нормальный вид. – Ты не прав, ты из гордости настаиваешь на своем, но ты не прав. И ты еще обо мне пожалеешь.
– О, так говорят все женщины, и притом самое любопытное, что всегда они о нас жалеют, а мы – никогда.
– Но ты же никогда не найдешь такой, как я.
– И слава богу!
– Я ведь все-таки подарила тебе мою юность.
– Ну, ты сделала этот подарок стольким другим…
Он придвинул к себе какие-то бумаги.
– Слушай, – проговорил он. – Ты увидишь, что я великодушен настолько, насколько это вообще может быть, гораздо больше, чем сам я ожидал. Я мог бы мстить, выставить тебя из театра – ты этого стоишь. Но я не хочу смешивать личную жизнь с искусством. Я вел тебя к определенной цели, я ее достиг и не собираюсь портить тебе карьеру. Поэтому ты подпишешь вот этот контракт, и все встанет на место, а между нами останутся лишь обычные отношения – как между директором и исполнительницей.
Она готова была подписать все, что он хотел: с блестящими от слез глазами она просто подписала, не глядя, договор на пять лет с исключительным правом на нее театра де Де-Виль, с самым невысоким жалованьем и, кроме того, с выплатой Вильнеру двадцати процентов со всех контрактов в кино или где бы то ни было, которые к тому же она обязалась подписывать только с его разрешения, и, наконец, с выплатой неустойки в миллион франков в случае, если она нарушит юридически или фактически один из пунктов настоящего соглашения.
– Поверь, тебе очень повезло, – заметил он, беря перо у нее из рук.
Затем, когда она вышла, он приотворил дверь кабинета госпожи Летан.
– Все в порядке, – возвестил он. – Вы не забыли отправить цветы прелестной госпоже Буатель?.. Не забыли? Превосходно… Тогда покажите квитанции о расклейке афиш и дайте мне первые данные о продаже билетов.
Анатоль Руссо в кратчайшие сроки, пользуясь личной властью, настоял на включении банка Шудлера в операции, связанные с выплатами потерпевшим. Однако слишком торопиться с реализацией предложения Стринберга он не стал. Он держал в кармане самый большой козырь, выпавший ему за всю его жизнь. На посту министра финансов ему было не так уж выгодно проводить успешную операцию, результатом которой все равно воспользовался бы глава правительства. Поэтому он довольствовался тем, что распускал слухи, заставлял говорить в правительственных кругах – и даже при случае ссылаться на самого Стринберга – об обязательствах, полученных им от финансиста. Он выжидал. Впрочем, не так уж и долго. Кабинет был распущен сенатом из-за пустякового вопроса, просто потому, что парламент искал повод его свалить: и Руссо не остался в стороне от закулисной возни при подготовке падения правительства.
В этот период кабинеты сменяли друг друга со средним интервалом – в две недели. А иной раз, не протянув и двадцати четырех часов, уходили в отставку сразу по представлении в палатах парламента. Правительственные кризисы длились почти столько же времени, сколько существовали кабинеты. Газеты что ни день публиковали новую комбинацию, которую назавтра же отвергали. Консультации президента Республики начинались на заре, а заканчивались иногда далеко за полночь. И куда больше времени уходило на то, чтобы создать путем осторожного, тщательного расчета и торгов ненадежное большинство, чем его свалить.
Итак, кабинет ушел в отставку: акции упали на несколько пунктов, и начались сделки. Больше недели руководители партий, крупные политические фигуры искали по телефону, за столом, в машине, на прогулке и даже в недолгой тишине постели решение неразрешимого ребуса. Три предложенных состава потерпели поражение с первых же попыток. Тогда президент Республики вызвал толстого, внешне рассеянного, хитрого человека по имени Камиль Портера, которому дважды удавалось при подобных обстоятельствах сформировать кабинет.
Глава партии Портера принципиально доверял всем. «Иначе теряешь слишком много времени», – говорил он. Он доверял даже собственной секретарше, которая была подсажена к нему Анатолем Руссо; лишь только Портера вызывал кого-то, кому он собирался предложить министерство, она тотчас звонила на улицу Риволи или по домашнему телефону Руссо:
– Он вызвал Берту… Он вызвал Клемантеля… Он собрался предложить портфель министра юстиции Пьеру Лавалю…
Руссо в свою очередь снимал трубку и набирал номера телефонов следующего круга заинтересованных лиц.
– Мне нужно срочно тебя видеть, – говорил Руссо. – Знаешь, у Портера нет никаких шансов. Главное, не дай этой старой сирене соблазнить тебя песнями, не то рискуешь остаться с ним вдвоем… Для наших кредитов за границей это была бы катастрофа. Ну да, но сначала меня повидай.
«Но ведь, в сущности, выбор его каждый раз очень точен и справедлив», – думал Анатоль Руссо, не в силах удержаться от восхищения мудростью и хитростью Портера.
Игра длилась весь день, в конце которого Камиль Портера с удивлением обнаружил столько отказов в списке, казавшемся ему идеальным, что отправился к президенту Республики признавать свою несостоятельность. И в ту минуту, когда Портера, усталый, низко опустив голову, подъехал к Елисейскому дворцу, он увидел Анатоля Руссо, выходившего оттуда в окружении плотной толпы журналистов, атакуемого фотографами, как знаменитая актриса, спускающаяся с парохода, или как Эдуард Вильнер в день генеральной.
– Господин президент Республики, – объявил Руссо сухим и хорошо поставленным голосом, – только что возложил на меня трудную миссию сформировать правительство. И я счел своим долгом согласиться. Ситуация сложная, чтобы не сказать трагическая. – (Не было случая, чтобы новый премьер-министр не заявлял, что вступает на пост в трагической ситуации.) – Речь идет о том, чтобы, с одной стороны, спасти мелких вкладчиков, а с другой – восстановить престиж Франции, серьезно скомпрометированный за границей нестабильностью правительства. Делать это нужно быстро, и делать хорошо. Я хотел бы как можно скорее составить представительный кабинет национального согласия и, главное, кабинет стабильный.
Это был другой человек. Лицо его выражало энергию, уверенность, достоинство, какого за ним никогда не знали. Самому ему казалось, что он вырос на несколько сантиметров, а поскольку он терпеливо ждал этого дня вот уже сорок лет, он чувствовал себя настолько же помолодевшим.
Люди, его окружавшие, тоже стали другими, исполнились предупредительности, заботы, почтительности и даже раболепства.
Камиль Портера прошел, пожав плечами.
Вечерние газеты напечатали специальный выпуск. Руссо был в нем представлен как единственный человек, способный восстановить доверие. Политические комментаторы особо подчеркивали уважение, каким пользуется бывший министр финансов в международных финансовых кругах.
Руссо пообещал не терять времени: он сдержал слово тем более легко, что список, полностью слизанный им у Портера, был готов.
Из вежливости Руссо позвонил по телефону Симону Лашому.
– Я непременно хотел, мой дорогой Симон, – сказал он, – оставить что-нибудь за вами. Но, к сожалению, отказ вашего друга Стена, который мешает мне создать по-настоящему представительный союз национального согласия, чего я искренне желал, мешает мне в равной степени, вы понимаете сами…
Затем – будто нельзя было больше терять ни минуты, хотя страна обходилась без правительства в течение десяти дней, – он в полночь собрал всех членов нового кабинета и повел представлять их президенту Республики.
На следующее утро газеты броскими заголовками возвестили: «Кабинет Руссо составлен».
Большая фотография членов правительства, сделанная при свете магниевых ламп на ступеньках Елисейского дворца, возвестила Франции, что у гидры выросли новые головы, измученные амбициями и бессонницей, украшенные все той же лысиной, темнеющей кариесными пятнами улыбкой, теми же бакенбардами, тем же моноклем, той же короткой бородой.
Руссо пришлось за четверть часа переварить такую кипу газетной хроники, какая могла бы услаждать его не менее двух недель: «Карьера нового премьер-министра… Анатоль Руссо, человек, делающий ставку на доверие…»
– Видали! Вот это кабинет! – воскликнул Руссо, хлопая тыльной стороной ладони по стопке газет. – Давайте-ка, Дюпети, отложите мне их: прочту, когда будет побольше времени…
Затем, после полудня, гидра расположила свои многочисленные зады на скамье правительства в Бурбонском дворце. Акции на бирже подскочили на несколько пунктов, что также явилось добрым предзнаменованием. По самым скрупулезным подсчетам, можно было рассчитывать на большинство в девятнадцать голосов. Руссо же получил тридцать один и решил, что с этих пор кресло закреплено за ним навечно.
Естественно, он сохранил за собой портфель министра финансов. Без всяких разумных на то оснований Руссо казалось, что на часах работы Буля пробил миг великих незыблемых кабинетов, какие бывали на заре Республики. И он воображал, что там, где все его коллеги за последние десять лет терпели поражение, он непременно добьется успеха. Произнося свою программную речь, ничем не отличавшуюся от выступлений его предшественников, он убеждался в силе, глубине, очевидной истинности своих слов, которые в других устах казались ему «переливанием из пустого в порожнее».
Он примет предложение Стринберга и на эти деньги сотворит множество чудес: одно его начинание будет успешнее другого в глазах и парламента, и общественного мнения, за несколько недель он оздоровит общую ситуацию, предложенный им бюджет будет одобрен еще до конца года, он добьется всеобщего процветания, его визит в районы, восстановленные за рекордный срок, получит громкий резонанс… Благополучие Франции отныне – его личная забота. Он управлял ею вот уже два года, четыре года, а может быть, и больше… Он охотно представлял свою кончину на посту главы правительства, национальные похороны и увековечивание его памяти в истории рядом с великими министрами.
А в ожидании он заказывал свой бюст тому официальному скульптору, который когда-то представил Марианну в облике Марты Бонфуа.
Каждый день он урывал десять минут, чтобы позировать художнику. Но в краткий миг расслабления, пока скульптор измерял остриями циркуля его лицо, у него в ушах звучал обрывок заученного в детстве стиха:
…бюст,
Переживший город.
За исключением этого краткого мига, он был всецело поглощен изнурительной работой, почти всегда бесплодной, и не чувствовал, как истощаются его нервные силы.
В тот момент, когда Анатоль Руссо решил подписать условия займа, он узнал, что Стринберг внезапно уехал в Цюрих. Финансист обосновался в Дольдере, в роскошной резиденции, расположенной над городом и заливом. Руссо приказал дозвониться до Дольдера. Но Стринберга там уже не оказалось – он переехал в Брюссель, в «Метрополь». Руссо предупредил Шудлера; Шудлер направил гонца, которому понадобилось двое суток, чтобы определить, что Стринберг живет в «Рице».
– Но он не может быть в «Рице», я бы знал об этом, – сказал Шудлер, получив сообщение.
– Да нет, в лондонском «Рице». Правда, послезавтра он должен вернуться в Брюссель.
Все носились за Стринбергом по Европе, как послы Светлейшего гонялись из замка в замок за Людовиком XI во времена странствующей королевской власти.
Шудлер со своей трясущейся рукой, в фетровой шляпе, сев на поезд, сам отправился в Бельгию, где виделся со Стринбергом, и привез Руссо формальное подтверждение, что условия займа могут быть подписаны через неделю.
Стринберг держит слово. Через неделю большой концертный «Плейель» был поднят в апартаменты на третьем этаже отеля на Вандомской площади, за несколько часов до приезда финансиста. Вечером у него состоялась весьма продолжительная встреча с Руссо. Выходя с совещания, премьер-министр казался столь же удовлетворенным, как в день его вступления в должность. Стринберг подписал свои уточненные обязательства и увез скрепленные подписью Руссо взаимные обязательства французского правительства.
Руссо повел Стринберга ужинать в известный во всем мире ресторан на улице Руайяль, где каждый мог их узнать. Премьер-министр был так доволен, что даже пригласил начальника своей канцелярии Дюпети пойти вместе с ними. Финансист, как обычно, пил только минеральную воду.
На следующее утро Стринберга нашли в ванной комнате мертвым со вскрытыми на запястье венами.
Стринберг был человеком чистоплотным: он предусмотрительно уселся в шезлонг и опустил руку в биде.
Ни в одной из комнат нигде ничего не валялось – ни каких-либо бумаг, ни паспорта, – только в камине лежала разворошенная кучка пепла.
В ходе расследования полиции и вскрытия выяснились тем не менее некоторые любопытные вещи. Прежде всего, что вскрытию вен лезвием для бритья предшествовало вливание сильной дозы наркотика, смешанной с вином. Далее, что покойный много лет назад перенес ампутацию левой стопы и носил протез. Эта ампутация, объяснявшая прихрамывание Стринберга и его вечные ботинки на шнуровке, позволила сделать и другое открытие.
Разведка и Служба наблюдения за иностранцами, наведя справки в своих архивах, сумели установить волнующее и очевидное сходство – в той мере, в какой это возможно на основе описаний тридцатипятилетней давности, – между покончившим с собой миллиардером и активным социалистом-революционером латышского происхождения, незаконным сыном барона фон Стрюдберга, который разъезжал обычно по разным странам, в том числе и по Франции, под именем своего отца, и получившим в 1895 году известность как террорист, подложивший бомбу у дворца наместника в Варшаве. Бомба взорвалась раньше времени, унеся ногу юного революционера.
То, что у Стринберга не бывало связей с женщинами, могло в какой-то мере объясняться страхом раздеться перед ними.
Социалист-революционер Стрюдберг после покушения исчезает навсегда. Больница? Тюрьма? Его похищение группой товарищей? Никаких сведений.
Стринберг появился в Осло лишь в 1913 году в том обличье, какое ему и пришлось сохранять вплоть до самоубийства на Вандомской площади. Он приехал тогда из Северной Норвегии, уже обладая известным состоянием или по меньшей мере известным влиянием, приобретенным благодаря удачным деловым операциям. Между прочим, он основал нечто вроде рыболовецкого кооператива и тотчас занялся строительством и снаряжением судов, которые стал поставлять упомянутому кооперативу. Говорили также, что первый свой кредит он получил по подложному документу – по распоряжению на открытие кредита, которое сам же сфабриковал, подделав подпись одного банкира, о чьей смерти ему удалось узнать, и представив бумагу в банк за несколько часов до того, как там узнали о кончине.
Размышляя над картой Севера, можно было получить удовольствие, вообразив маршрут авантюриста, и представить себе мытарства, которые после неудачного покушения претерпел будущий миллиардер в лапландском безмолвии. Какие профессии ему пришлось перепробовать? Какие физические испытания преодолеть? Какая яростная жажда жизни и победы над ней поддерживали его на протяжении восемнадцати лет?
Официально Стринберг значился по национальности норвежцем.
Но вот еще один странный факт: генеральный консул Норвегии, тотчас предупрежденный о самоубийстве, так и не мог увидеть тело.
Когда дипломат примчался в отель на Вандомской площади, труп, незаметно вынесенный на тележке для чемоданов, был уже увезен полицией. Впрочем, никто из персонала отеля его не видел. Секретарша, обнаружившая тело, поставила шофера и другого слугу на страже у двери до прибытия инспекторов полиции. Консул бросился в институт судебно-медицинской экспертизы: шло вскрытие. Когда он опять туда приехал, тело уже увезли в крематорий, согласно, как предположили, воле покойного, которая никогда и ничем не подтвердилась. Консульство получило лишь небольшой ящик, который следовало переправить в крепость на Балтике.
Полицейские службы получили из канцелярии премьер-министра строжайшее предписание соблюдать тайну. Была представлена официальная версия, согласно которой финансист умертвил себя в припадке неврастении. Вечерние газеты, стремившиеся накормить читателей романтической похлебкой, терялись в догадках и вынуждены были помещать над второстепенной информацией броские заголовки: «Соседи сверху до четырех часов утра слышали звуки рояля…» или же: «Что содержал в себе загадочный звонок из Брюсселя?»
Однако нельзя было скрыть, особенно от оппозиционных газет, что глава правительства в тот самый вечер ужинал со Стринбергом.
Руссо пребывал в негодовании и тревоге. Напрасно его уверяли, что Стринберг сжег все бумаги, его ужасала одна мысль о том, что кто-то мог выкрасть документ, который он составил накануне, и превратить его в орудие против Руссо.
– Мерзавец, мерзавец, он обвел меня вокруг пальца, – повторял он. – Да! Первое мое впечатление было верным. Так я и знал: как только я увидел этого человека…
Но Стринберг не собирался «обводить вокруг пальца» Руссо: во всем, что касалось их сделки, он был совершенно честен по той простой причине, что фонды, обещанные им французскому правительству, в основном предназначались сообществам потерпевших. Благодаря закупочным кооперативам, к которым Стринберг пристегнул сообщества, он предполагал сделать крупные заказы материалов для своих лесопилок в Финляндии, своих сталелитейных заводов в Швеции, своих стекольных заводов в Чехословакии, для того чтобы освободить склады, где образовалось опасное скопление грузов, и вновь наладить работу в цехах, которые перепроизводство обрекло на остановку. И разве не предусмотрел он даже огромного ввоза мальков из своих норвежских садков, чтобы снова населить «опустевшие реки».
Незатейливые умы могли бы задаться вопросом, почему Стринберг так настойчиво стремился выстроить сложную цепь операций, замкнуть гигантское кольцо, вместо того чтобы устроиться на природе, где-нибудь на берегу большой реки (которые он так любил), повторяя себе, что воды, текущие мимо него к морю, испаряясь, образуют тучи, а те проливаются на землю дождем.
Но, по-видимому, плоды труда человеческого, как и плодородие земли, существуют лишь благодаря одним и тем же беспрестанно повторяемым движениям, конечный результат которых растворяется в начале.
И вдруг приходит день, когда гроза превращает дождинки в град, побивающий посевы, или оползень перегораживает реку и она затопляет долину.
Деньги, которые Стринберг собирался одолжить Франции, нужно было где-то взять. Он попросил их у бельгийского правительства, которое в свою очередь запросило гарантии. Стринберг предложил долговые обязательства итальянского правительства. Это была секретная операция, настолько секретная, что только бельгийский министр финансов и управляющий банком Бельгии видели эти документы. А потом случайно, мимоходом, какой-то мелкий клерк обнаруживает, что у Стринберга никогда не было долговых обязательств итальянского правительства. Встревожившись, но не веря этому, бельгийское правительство проводит тайное расследование и обнаруживает, что бумаги фальшивые.
«Таинственный звонок из Брюсселя» как раз и сообщал об этом.
Вот что мог установить Робер Стен, прежде чем об этом узнал сам Руссо, в то время как курсы акций на всех европейских и даже американских биржах зловеще падали.
– И все-таки это не объясняет его смерти, – говорил Стен Симону. – Поскольку Стринберг превосходно знал, что банки Стокгольма, Лондона, Цюриха и даже самые яростные его противники предпочли бы временно помочь ему выкарабкаться и скрыть подлог, чем расхлебывать последствия его краха в подобных обстоятельствах. Нет, тут что-то другое. Видимо, Стринберг оказался в положении ученого, построившего всю работу на приложении формулы, но внезапно обнаружившего, что она неверна. Бомба второй раз взорвалась у него под ногами… Видишь, Лашом, как я был прав, что не дал тебе сесть на эту галеру!.. Правда, теперь надо действовать наверняка.
А Симон и сам уже принял меры.
Как только Симон, находившийся в ту минуту у себя в кабинете в «Эко дю матен», узнал о смерти Стринберга, он предупредил Шудлера не по телефону, а запиской – копию которой предусмотрительно оставил себе, – где он спрашивал, должны ли они давать какие-либо материалы в газете. Записку Симон отправил в банк с курьером на велосипеде.
Шудлер прислал ответ на банкноте в тысячу франков, поперек которой беспорядочным и почти неразборчивым почерком было нацарапано: «Никаких материалов. Пусть редакция поместит официальную версию. Стринберга заменю я. Все. Ш.».
Шудлер много раз уже пользовался банкнотами для пересылки приказов, соразмеряя ценность купюры с важностью текста или значимостью адресата – пять франков, сообщая своему дворецкому, что он приведет двух человек к обеду, или сто франков, рекомендуя журналиста главному редактору «Эко».
Получив и тщательно сложив записку, неосторожно выдавшую умственное расстройство Шудлера, Симон, являясь и управляющим банком, приостановил все выплаты и велел немедленно приготовить финансовый отчет.
Мера эта воспринималась бы естественно в случае, если бы было объявлено о банкротстве Шудлера, но, предприняв ее заранее, Симон лишь ускорял, если не провоцировал, катастрофу.
Приказ, отданный Симоном, приходился на день выплаты. Кроме того, стремясь подогреть волнения, Симон в самой вежливой форме дал знать различным поставщикам, что свои чеки они смогут реализовать через несколько дней. Было позволено сделать лишь несколько выплат из наличности, имевшейся в сейфе, после чего кассир закрыл окошечко и штатные сотрудники не получили жалованья.
Шудлер только вечером узнал о мерах, принятых Симоном. Между ними произошла чудовищная сцена, и Симона назвали трусом, предателем и убийцей.
– Ну что же, завтра вы возобновите выплаты, раз все идет так хорошо, – спокойно проговорил он. – А я принял это решение только для того, чтобы приостановить начиная с сегодняшнего дня выплаты по моим хозяйственным счетам.
Одновременно он передал Шудлеру прошение об отставке, где заявлял, что не может участвовать в руководстве предприятием, судьба которого связана с банкирским домом, управляемым столь, как ему кажется, опасным образом.
– Опасным, опасным, – хмыкнув, сказал Шудлер, – тогда как у меня лежат два миллиарда для сообществ потерпевших!
Затем Симон, окончательно умыв руки, стал ждать развития событий в обществе Марты и «президента» Стена.
Паника, которую Симон постарался разжечь, в самом деле началась. По Парижу пронесся слух, что «Эко» больше не платит, что Шудлер оказался замешан в деле Стринберга и что банк вот-вот может лопнуть.
На другой день наиболее осторожные вкладчики начали снимать деньги со счетов в окошечках на улице Пти-Шан. В последующие дни отток денег принял трагические размеры.
Инспектор министерства финансов, единолично контролировавший сообщества потерпевших, желая снять с себя ответственность, потребовал немедленного расторжения договора с банком Шудлера.
Шудлер явился к Руссо, умоляя его ничего не предпринимать.
– Я – жертва отвратительной махинации, но это вопрос сорока восьми часов, – сказал банкир. – Если вы лишите меня доверия государства, вы меня убьете.
Он напомнил Руссо их давнюю дружбу, сыграл на струне воспоминаний. Руссо был адвокатом Шудлера. Шудлер поддерживал Руссо на первых трудных порах его политической карьеры…
Больной рукой исполин опрокинул чернильницу. Но тут же справился с собой.
– Вы надели мне на шею красный галстук: неужели теперь накинете веревку? – воскликнул он. – И помните, что ополчились они не только на меня, но и на вас: нас хотят сокрушить вместе. Но я – здесь, вы – здесь, они ничего не сделают, и, я даю вам гарантию, через два дня курс на бирже поднимется – не могут же они до бесконечности играть против самих себя. Шудлеров сокрушить нельзя… Это зависть ими движет, слышите вы, зависть, Анатоль: мы для них слишком крупная дичь, – добавил он, великодушно давая премьер-министру столь же высокую оценку, как и самому себе. – Что же до этого ничтожества, до этого негодяя Лашома, к которому я относился как к сыну…
Руссо позволял себя убедить: в его интересах было не разорять Шудлера, а, наоборот, помочь ему выжить.
Однако следующий день на бирже принес полное поражение. То, что называлось процентными бумагами Шудлера, то есть, кроме всего прочего, сахарные заводы в Соншелях, шахты в Зоа и акции самого банка, повторили судьбу процентных бумаг Стринберга на рынках всего мира. Разрушившись, могущество Стринберга, построенное на блефе, повлекло за собой и гибель существовавшего столетие состояния Шудлера, – так ветер, найдя трещину в стене и постепенно ее увеличивая, приводит к разрушению слишком ветхое жилище.
Шудлер мужественно принял удар.
Он попытался повторить операцию, задуманную семь лет назад с заводами в Соншелях и повлекшую самоубийство Франсуа. Он появился на бирже, по-прежнему блестя глазами, черневшими в узких щелях между толстыми веками, но осевшее тело выдавало слабость, и вялый мозг не слушался его. Да и ситуация была далеко уже не та. В деле с Соншелями он искусственно занижал курс акций, предприняв необходимые меры, и к тому же это был период всеобщего благоденствия. Теперь же катастрофа была настоящей.
В своей мании величия барон Шудлер дошел до того, что смешал личное состояние с капиталами, управляемыми банком. Бросая миллионы налево и направо, бессмысленно вкладывая их в сомнительные предприятия – в кинокомпании, которые так ничего ему и не вернули; в дома моды, которые разорились, едва успев возникнуть; в командировки для изучения возможностей строительства железной дороги между Конго и Занзибаром – словом, во все пустые дела, в которые заставлял его кидаться волчий голод власти, – он пришел к тому, что в его собственном банке образовался головокружительный дефицит.
Стремясь задержать падение курса акций и противостоять изъятию вкладов, Шудлер в этот роковой день пустил в ход деньги, полученные от займа для сообществ потерпевших.
Напрасно. То, что он надеялся удержать с одной стороны, рушилось с другой, притом с более серьезными последствиями.
Старик, переживший почти всю семью, похоронивший многих друзей, был оттиснут, задвинут на второй план, настолько отстранен от событий, что даже главные последствия собственного краха не могли его коснуться. А в это время в голове его, подобно назойливой песенке, настойчиво звучали слова деда, первого барона Шудлера: «Die Banken, der Zucker und die Presse das ist die Zukunft»[21].
– Убийцы! Убийцы! – воскликнул Шудлер перед закрытием биржи. – Меня уничтожили.
Но в глубине души он не мог в это поверить.
В тот же вечер договор с Шудлером был наконец отозван министерством финансов, а на следующий день банк на улице Пти-Шан вынужден был закрыть свои окошки.
Это было крушение, крах, банкротство.
Великий экономический и финансовый кризис начался со смерти одного и разорения второго из тех двух людей, что олицетворяли собой подлинное и фальшивое процветание мира.
– Бедняжка Люлю, верно, в гробу перевернулся, – говорили в семействе Леруа-Мобланов.
Для Руссо тоже время было упущено. Дело о сообществах потерпевших было предано огласке, и требование о парламентском запросе лежало уже на столе в палате представителей.
– Да, мадам, нынче ночью будет потеха, – позволил себе заметить служащий, предупредительно распахнув перед Мартой Бонфуа дверь, ведущую на балкон.
– Возможно, – отозвалась Марта со своей лучезарной улыбкой. – И вам из-за этого придется задержаться.
– Что вы! Для того мы тут и состоим. И к тому же нам за это платят, правда?
Весь персонал палаты представителей очень любил Марту, соединявшую царственную красоту с бесконечно изящным, простым и милым обхождением. Она устроилась в первом ряду на узкой полупустой скамейке.
На балконе уже разместилось некоторое число женщин: старух, переступивших возраст иных ночных развлечений, похожих на полусонных сов и приходивших сюда потешить остатки еще дремавших в них страстей, и несколько дам, юных и элегантных, делавших первые шаги в обществе и получивших пригласительные билеты от депутатов, которые желали тем самым польстить им и поощрить за прелестную внешность, – так Вильнер посылал им контрамарки в свой театр.
Им обещали, что они увидят сегодня на арене миленького семидесятилетнего старичка гладиатора, с густыми седыми волосами, на высоченных каблуках, который будет брошен на растерзание людям.
Пока же они могли наблюдать лишь клерков, собиравших ящики после голосования по вопросу о квартирной плате, голосования, не интересовавшего никого, кроме восьми миллионов квартиросъемщиков Франции.
Резкий и в то же время тусклый свет увеличивал размеры просторного зала.
На заседании присутствовало не более шестидесяти депутатов, рассеянных по пурпурным скамьям и полумертвых от скуки. Они напоминали последних сенаторов античного города, разрушенного полчищами врагов или опустошенного страшной эпидемией.
Прелестные молодые дамы с балкона глядели удивленными, умными и разочарованными глазами на впечатляющий своей тоскливой атмосферой большой амфитеатр, на высокие мраморные колонны, поддерживающие и разделяющие все пространство зала, на ложи для публики, на стеклянный потолок, на настенные часы, на шпалеру с аллегорическим сюжетом, висящую посередине стены за председательским местом, между двумя белыми статуями, утопленными в нишах, и на зеленые с золотым орнаментом стены.
На балконе было тесно: с каждой минутой прибывали люди, и молодые дамы начали задыхаться.
Однако к двум часам ночи атмосфера оживилась. Депутаты через боковые двери возвращались в зал и занимали свои места. Одни шли неспешно, группами, другие влетали кучками, словно заброшенные сюда пинком невидимого великана…
Некоторые – но очень немногие – ездили домой принять ванну; иные – с правых и центральных скамей – приехали с приема или затянувшегося ужина и оставались в смокингах. Но большинство не меняли рубашек со вчерашнего утра, воротнички у них засалились, и руки тоже казались немытыми. Недавнюю зловещую тишину сменил беспорядочный гул, когда партии уточняли свои последние планы нападения или защиты.
На несколько минут заседание прервали. Заместитель председателя, проводивший обсуждение закона о квартирной плате, вышел из зала. К этому времени палата заседала уже почти шестнадцать часов.
Марта Бонфуа увидела, как Робер Стен с Симоном вместе появились в амфитеатре, и сердце у нее забилось сильнее. Мужчины подняли глаза, заметили Марту там, где они и ожидали ее найти, такую красивую в обрамлении своих серебряных волос, как раз по центру колоннады, в первом ряду председательских мест, будто на переднем сиденье императорской ложи. Они незаметно обменялись с ней долгим взглядом, чтобы подтвердить, что выходят на бой в ее цветах. Затем они сели рядом, ощущая собственную значимость.
«Жаль, что у Робера сегодня усталый вид, как бы мне хотелось, чтобы он был во всеоружии, чтобы поддержать Симона, – по-матерински участливо подумала Марта. – А Руссо, наоборот, кажется, в полной форме».
И действительно, маленький гладиатор только что вошел в зал уверенной походкой, вздернув подбородок и гордо откинув со лба седую прядь. Он сел на скамью правительства, среди своих министров, на место, которого он так долго добивался и уже успел скомпрометировать. Когда минули первые мгновения паники, охватившей Анатоля Руссо после самоубийства Стринберга и банкротства Шудлера, к нему вернулась уверенность. Прежде всего, курс акций стабилизировался, и это уже хороший признак. Затем, пристально изучив собственное положение, он понял, что ему нельзя предъявить никаких серьезных обвинений, его невозможно особенно скомпрометировать или обвинить в нарушении каких-либо норм. Ответы на вопросы о сообществах потерпевших у него были готовы, и он надеялся без труда заставить замолчать своих противников.
Одновременно с премьер-министром в зал вошел председатель палаты. Это был старик, сложением и видом напоминавший какое-то толстокожее животное: он медленно двигался, опираясь на палку и не без достоинства волоча ногу, отяжелевшую, по-видимому, от тромбофлебита.
Он был во фраке, и жесткий пластрон постукивал его по груди. Казалось, он воплощал в себе одновременно и величие, и утомленность прежнего режима.
Он тоже был одним из «близких друзей» Марты, одним из самых первых, в те времена, когда еще не она создавала министров, а министры создавали ее.
Помимо бремени лет старика тяготила трудная бессонная ночь. Зрелище было трогательное и почти прекрасное: он шел, подтягиваясь на перилах, останавливаясь на каждой ступеньке, задыхаясь, вздымая тяжелое бессильное тело по крутой лестнице, которая вела к председательскому столу, и наконец рухнул в кресло.
Странно, но столетней давности сооружение из красного дерева, паркета, с мраморными барельефами, бронзовыми головами сфинксов, представлявшее собою кафедру палаты, где размещались: внизу – стенографистки, над ними – оратор, еще выше – секретари и председатель, походило на пирамиду, какую сооружают цирковые акробаты, чтобы водрузить ее на спину слона; клерки же в самом низу казались служителями на арене, готовыми натянуть сетку. А прищурив глаз, можно было с равным успехом представить себе некую картину в стиле барокко, изображающую Страшный суд, где из облака выступает торс Бога Отца, который взирает сверху на смешанную толпу проклятых и избранных. Председатель палаты, помещавшийся позади сфинксов, и Марта, сидевшая в первом ряду балкона, находились как раз друг против друга, почти на одной высоте; и оба они понимали – она, обладая чутьем великой возлюбленной, он, слишком хорошо зная людей и историю, – что эта яма с отлогими склонами, лежавшая между ними и теперь заполненная до отказа пожилыми шумливыми подростками, представляет собой один из первых на земле парламентов, во всяком случае первый по уровню интеллекта и мировой значимости происходящих в нем сражений.
Председатель пробормотал несколько слов, предназначавшихся разве что для стенографисток, объявив о продолжении заседания, где будет рассмотрен запрос о финансовой политике.
Затем, стремясь добиться тишины, по старой преподавательской привычке – вместо того чтобы воспользоваться традиционным колокольчиком, – он постучал по краю стола ножом для разрезания бумаги.
– Слово господину Портера!
Рассеянный, хитрый, злопамятный Портера в эту минуту разговаривал со Стеном и Симоном. Он не услышал, как назвали его имя.
– Господин Портера, вам слово! – громче повторил председатель.
Камиль Портера, направляясь к трибуне, поднял руку, как бы говоря: «Конечно, конечно! Я ведь сплю всего по три часа и раньше пяти никогда не ложусь, так что у нас масса времени».
Затем ногтем большого пальца он поскреб яичное пятно на лацкане пиджака.
– Господа, – начал он, – приступая к обсуждению и воскрешая в памяти некоторые прискорбные события, я попытаюсь проанализировать факты, не заостряя внимания на личностях.
Слова его тотчас были встречены дружными аплодисментами, доказывавшими, как высоко оценивается подобное проявление доброй всепартийной воли. Сразу стало ясно, что слова «не заостряя внимания на личностях» означают лишь оскорбительное презрение по отношению к Руссо.
– Каждому известно, что в ту минуту, когда господин премьер-министр, – между прочим бросил Портера, не проговорив и пяти минут, – формировал – со скоростью, которую все в разной степени оценили, – свой кабинет, он предполагал иметь в распоряжении фантастический заем, который позволил бы Франции завершить восстановление послевоенных руин, не требуя немедленных усилий ни от налогоплательщика, ни от вкладчика. Господин премьер-министр захочет, я надеюсь, рассказать нам подробности об этом займе и скажет также, правда ли, будто крупный иностранный финансист, с которым господин премьер-министр вступил – решив это исключительно своей властью – в переговоры, перерезал себе горло…
– Запястье, – крикнул кто-то.
– Что запястье? – переспросил Портера.
– Перерезал вены на запястье!
– Ну запястье, если вам угодно: разницы никакой, – согласился, вызвав смешки, напоминавшие хихиканье жестоких школьников, рассеянный Портера. – Скажет – я возвращаюсь к нашей теме, – не изменила ли внезапная кончина этого господина лучезарных финансовых мечтаний правительства.
Портера подчеркнул причинные связи, существовавшие между смертью Стринберга и крахом Шудлера, затем, спросив, сколько миллионов отпущено на сообщества потерпевших, закончил:
– Господин премьер-министр, бывший в ту пору – пору, впрочем, совсем недавнюю – министром финансов, разумеется, объяснит нам, какую роль играл лично он в соглашении с банком Шудлера.
Потом, удовлетворившись тем, что так удачно связал и набросил на Руссо сеть, под которой тому теперь предстоит биться, Портера покинул трибуну, уступив место другим гладиаторам, и стал демонстративно дочищать яичное пятно, видневшееся еще на лацкане его пиджака.
Ораторы, сменившие Портера, говорили о разном: один обличал маневры крупных капиталистов; другой возмущался от имени пострадавших от войны; третий умилялся, напоминая о драгоценном «мелком вкладчике», но все в конце концов адресовали свои упреки премьер-министру.
Анатоль Руссо вставал, но отвечал с места. Он отвечал уверенно и даже чуть презрительно, не вынимая рук из карманов пиджака и поворачиваясь к какой-либо части собрания – в зависимости от того, к кому из авторов запроса обращались его слова.
У Руссо была особая дикция: он говорил отрывисто, но растягивал слова и повышал интонацию к концу фразы – манера, достаточно искусственно звучавшая вначале, но потом ставшая для него вполне органичной.
Руссо говорил о всеобъемлющем желании отстроить разрушенные области, о возникшей необходимости создать сообщества и подключить банки.
– Было бы преступно, господа… да, преступно… отказаться от содействия частного капитала… в удовлетворении нужд, которые государство не в состоянии само удовлетворить…
И какой же банк, по словам Руссо, мог внушать большее доверие, чем тот, который крепко стоит на ногах вот уже целое столетие и чей президент-директор является и членом совета управляющих Французского банка.
– Но финансовые учреждения подвержены превратностям жизни. Наши ошибки, господа, часто порождаются нашими бедами. И я не покину господина Шудлера… только потому, что он временно… попал в беду…
Подобная рыцарская позиция могла лишь привлечь к нему симпатии.
– Соглашение было отозвано сразу, чтобы сохранить целостность капитала займов. Ведется следствие. Правосудие исполнит свой долг и, если понадобится… наложит ответственность, – закончил он даже с некоторым вызовом, бросив его всему собранию, и в частности Портера. – А потому я не вижу причины для такой враждебности, если, конечно… с помощью фактов… кое-кто не пытается поразить людей.
Его заявление было встречено дружными аплодисментами. В первом бою Руссо одержал победу, и стоявшее за ним большинство, казалось, не пошатнулось. Началась следующая атака. Со скамей левых экстремистов поднялся коренастый черноволосый, в круглых очках с металлической оправой человек, чьи голосовые связки словно были натянуты на железный котелок.
– Ответ господина премьер-министра нас не удовлетворил! – завопил он. – Ибо предыдущие ораторы сообщили нам о фактах расточительства, злоупотребления доверием и почти злостном банкротстве… упомянутого банка.
– Да вы подождите результатов следствия, а уж потом и заявляйте подобные вещи, – перебил его министр юстиции.
– Так вот, об этом банке, – продолжал черноволосый оратор, – который не сможет возместить средства, отпущенные под займы пострадавшим, ибо в противном случае, господа, я вас спрашиваю, зачем было бы подавать на него жалобу?..
– Но послушайте, в самом деле, – крикнул министр юстиции, – дождитесь вы, пока будут составлены отчеты! Это же отвратительно!
– Но… но это же банк, поверенным и адвокатом-советником которого как раз и является господин Анатоль Руссо.
– Браво! Великолепно! – раздались крики вокруг оратора.
Будто электрический ток пронизал весь зал.
– Это еще что за выдумки! – воскликнул, теряя терпение, Руссо. – Я перестал быть советником этой компании – как, впрочем, и всех других компаний, – лишь только вошел в правительство, иными словами, четырнадцать лет тому назад.
– Однако вы никогда не переставали защищать ее интересы! – раздался голос слева.
– …И ей служить! – разошелся черноволосый оратор, указуя перстом на Руссо. – Именно вы добились назначения барона Шудлера управляющим Французским банком.
– Но Шудлеры всегда занимали этот пост – он переходил от отца к сыну, – заметил Руссо.
– И опять же вы, господин премьер-министр, вашим личным решением заключили соглашение с банком барона Шудлера всего за месяц до его банкротства. И я думаю, что не ошибусь, предполагая, что палата имеет право спросить, сколько же вы получили за эту сделку? – закончил оратор.
Послышались аплодисменты с одной стороны и шиканье – с другой: публика на балконе также пришла в некоторое волнение.
– Сядьте, пожалуйста! – раздались голоса служителей. – Дамы и господа, пожалуйста, оставайтесь на местах: вставать запрещено.
– Господин Гурио, прошу вас выражаться сдержаннее, – сердито бросил, перекрывая шум, председатель палаты, постучав по кафедре и тыча ножом для разрезания бумаги в направлении оратора. – Я не позволю, чтобы против главы правительства делались оскорбительные выпады, если вы не в состоянии тут же, на месте, представить доказательства!
И с тех мест, где за минуту до этого раздавались аплодисменты, донеслось теперь шиканье, а аплодисменты раздались там, где только что шикали.
Руссо снова вскочил.
– Меня обвиняют в том, – сказал он, гордо повернувшись к собранию, – что я использовал свое влияние в интересах частной компании. Не имея, по всей вероятности, возможности предъявить претензии к моей административной деятельности, решили взяться за мою честь. Если сам факт того, что кто-то в определенный момент жизни занимался профессиональной деятельностью, – продолжал Руссо, – и регулярно получал за это гонорары… в качестве законного вознаграждения за оказанные услуги, должен при каких-либо обстоятельствах означать, что компании или же люди, выплачивавшие когда-то эти гонорары, пользуются особыми преимуществами, и все это в ущерб справедливости, возможностям и интересам государства… кто из нас, господа, мог бы избежать подобных, столь же ложных обвинений? Выходит, нужно было бы не делать никогда и ничего иного в жизни, как только быть депутатом… или министром! – Голосовые связки и мозг маленького человека работали на полную мощность. – А вы думаете, что суммы, вносимые на предвыборную кампанию… доходные места для членов семьи или людей из близкого окружения не могут рассматриваться как своего рода гонорары?
– В кого вы метите? – закричали те, кто почувствовал, что метят именно в них. – Имена! Имена!.. Это нечестная игра!
– Не более нечестная, чем ваша, – заметил Руссо.
– Имена!.. Вы не отвечаете… Лгун!
Депутаты принялись стучать кулаками по пюпитрам или хлопать крышками.
– Почему во всех грехах всегда обвиняют политиков-адвокатов? – вопросил Руссо, пытаясь вновь совладать с аудиторией.
– Потому что они наиболее беспринципны! – взвыл депутат Гурио.
– При этом адвокаты-политики всегда были и будут, – заметил Руссо.
– Более того, именно они и основали Республику! – послышался из левого центра голос Робера Стена, который вмешался, во-первых, защищая честь адвокатского мундира, а во-вторых, с сожалением видя, как дебаты уходят в сторону.
Однако шум не только не утихал, но, напротив, близился к апогею. Пюпитры хлопали. Депутаты перебранивались через скамьи, показывали друг другу кулаки. Они переругивались, не слушая друг друга. На свет вылезли все скандальные или темные дела, возникшие за последние пятьдесят лет в результате действий правительства, защищавшего частные интересы.
А элегантные наивные молодые дамы, взволнованные и немного испуганные, задавались вопросом: не сегодня ли, как раз в тот вечер, когда они тут, начинается революция? Высокие министерские чины собирались группами в коридорах у запасных выходов из зала.
– А ведь яростные нападки, которым подвергается правительство, – вещал голос, принадлежавший к партии Анатоля Руссо, – ведутся как раз с тех самых скамей, где сидит один из наиболее приближенных сотрудников банкира Шудлера! Да это же смехотворно!
Симон Лашом, который, казалось, только и ждал этого момента, поднял руку и закричал:
– Господин председатель, я прошу слова!
– Я еще не закончил! – гаркнул Руссо.
– Господа, господа, – повторял председатель, свесив носорожье тело над кафедрой. – Я прошу членов палаты вести дебаты на достойном уровне… Да, господин Лашом, вы получите слово. Но позвольте закончить господину премьер-министру. Господа! Господин Гурио, соблаговолите помолчать! Господа… Я буду вынужден прервать заседание!
Нож для разрезания бумаги стучал все громче. В конце концов председатель бессильно развел руками и повернулся к генеральному секретарю палаты. Это означало, что он собирается покинуть свое кресло и отправиться спать, предоставив негодным мальчишкам полную свободу – пусть хоть перестреляются, если им это нравится.
Стало чуть поспокойнее.
– Я счастлив, – продолжал Руссо, – убедиться в том, что господин Стен, хотя он, кажется, и не принадлежит к числу моих сторонников в сегодняшнем обсуждении… Я счел своим долгом воздать должное цеху, к которому он сам принадлежит… Цеху, который дал Республике немалое число вернейших ее слуг.
Коль скоро половина депутатов принадлежала к адвокатскому сословию, аплодисменты раздались на всех скамьях, и можно было даже подумать, что присутствующие сейчас встанут, будто речь идет о памяти погибших на войне.
– И поверьте, – торопясь воспользоваться успехом, закончил выступление Руссо, говоря словно бы с трудом и еще более проникновенно, – я выступаю сейчас не как министр, который стремится сохранить свой портфель… и даже не как человек, защищающий свою честь… я выступаю как республиканец, который призывает других республиканцев: берегитесь, ибо вы создаете условия для неповиновения режиму, а за это в будущем Франция может заплатить очень дорого.
Этими словами Руссо блестяще завершил второй бой. Но он вконец выдохся. Впрочем, устали все: депутаты, взвинченные от бессонной ночи, оглушенные собственными криками, – в точности как бывает, когда спорят пьяные, – не понимали уже, о чем, в сущности, идет речь. Было четыре часа утра, и они чувствовали, как на щеках пробивается колючая щетина. Заседание и в самом деле могло бы на том и кончиться без всяких выводов, и Руссо уповал на такой неопределенный исход, который спас бы его кабинет.
Но тут председатель палаты объявил:
– Господин Симон Лашом, вам слово!
С начала депутатской деятельности Симон редко брал слово, а если и выступал, то только по каким-либо второстепенным вопросам. И никогда прежде не участвовал он в таких важных дебатах, где каждая произнесенная им фраза могла иметь столь значительные последствия.
За те секунды, что он шел к трибуне, Симон в который уже раз восхитился поразительной скорости, с какой работала его мысль, когда он говорил на публике, и количеству деталей, какие он мимоходом подмечал: шахматная доска, которую чертил на белом листе бумаги один из его коллег; тусклый носок его собственных ботинок; Стен, покусывающий дряблую кожу на суставах; прядь волос, падавшая на лоб одному из клерков; утомленность и отвращение к людям, написанное на морщинистом лице председателя палаты. Вспомнил Симон и о ковре, который сторговал на прошлой неделе и за который оставил задаток. Словом, он думал обо всем, кроме единственно важной, основной вещи, на которой никак не мог сосредоточить внимание, – речи, которую ему предстояло произнести.
Перед ним – резной карниз красного дерева, справа – стакан, наполненный водой, и миниатюрный металлический карандаш, забытый предыдущим оратором… трибуна, как круглая ванна, опоясывала Симона. Старинная ванна… ванна Марата. У высоких ораторов создавалось впечатление, что они в любой момент могут перекинуться через борт, а люди маленького роста, наоборот, чувствовали себя так, будто сидят в воде по самую грудь.
Симон слушал, как над ним, на самом верху сооружения, председатель, давно выработав привычку бывалых парламентариев легко болтать о чем угодно, не упуская ни слова из выступлений ораторов, без умолку переговаривается с генеральным секретарем.
Внизу Симон мог видеть макушки стенографисток. А там, дальше, открывалась опасная бездна, на противоположном берегу которой шевелилась, ворчала, шумела людская масса из шестисот лиц, враждебная, невнимательная ко всему, кроме ошибки или глупости оратора.
Симон снял очки, чтобы отгородиться от внешнего мира… Цвета и очертания расплылись в тумане: все, что составляло большой амфитеатр парламента Республики, стало походить на громадный, однородный, открытый песчаный карьер, неясные контуры которого смутно различались на склоне холма, где нескончаемой чередой проходит вереница людей и лет.
– Господа… случилось так, что я оказался лично вовлечен в сферу сегодняшних дебатов. Я отнюдь не собираюсь скрывать какие-либо факты из тех, что мои долг и совесть велят представить и разъяснить палате по вопросу, тягостному во всех отношениях, заставляющему нас оставаться тут всю ночь, вопросу, который должен пролить свет на некоторые обстоятельства, известные, быть может, только мне.
Благотворным, успокоительным было для Симона ощущение того, как легко, сами по себе, слова складываются во фразы. Удивительный, таинственный инструмент, заключенный в человеке, однажды уже вступил в действие, как раз в нужный момент возникновение мысли соединялось с возникновением слова, совсем как в моторе – том самом моторе, за мгновение до этого крутившемся вхолостую и слишком быстро, – вдруг включается сцепление, соединяющееся с колесами или валом.
– Но вы, разумеется, признаете, господа, что одно из наиболее тягостных мгновений, случающихся в жизни человека, – когда ему приходится выбирать между дружескими чувствами и совестью. Вот это драматическое мгновение я сейчас как раз и переживаю.
Речь Симона напоминала хорошо укомплектованный, отлаженный, мощный, действующий почти автономно механизм, где все многочисленные детали работали без малейшего шума и скрипа. Оратору оставалось лишь контролировать эту самостоятельно существовавшую часть его организма, которая увлекала, несла его, и нужно было следить лишь за тем, чтобы не позволять себе слишком длинных пауз, чтобы повышать голос в местах, смысл которых было трудно понять или прочувствовать. И Симон надел очки, чтобы не сбиться.
Прямо под ним, на скамье правительства, он заметил лицо Анатоля Руссо, густые седые пряди его волос, нависшие веки, черты лица, увядшие от возраста, борьбы и неуемной тревоги. В памяти Симона всплыл день девятилетней давности, когда министр пригласил его, бедного жалкого преподавателишку, в свою роскошную машину и любезно поделился с ним меховой накидкой, а Симон не знал тогда, должен ли он оставить свою фетровую шляпу на коленях или надеть ее на голову.
А теперь министр безотрывно смотрел на Симона, и в его воздетых кверху глазах читались удивление, мольба, ужас, как во взгляде старика, на которого обрушивается стена и который не может уже двинуться с места, чтобы избежать смерти.
Симон почувствовал, сколь трогательна оказалась ситуация, и сумел извлечь из этого гораздо больше выгоды, чем сам предполагал.
– Все знают, господин премьер-министр, – воскликнул он, – что я начинал карьеру рядом с вами. Да и как я мог бы забыть месяцы, проведенные подле вас, в министерстве просвещения, в военном министерстве, где благодаря вам я узнал, что такое министерство, что такое государство, что такое высшие интересы нации…
Палата, обессиленная воплями минувшего часа, оглушенная длительностью заседания и дошедшая до того состояния, когда у большинства из тех, кто швырял друг другу в лицо оскорбления, осталось лишь смутное представление, из-за чего, собственно, разгорелся спор, палата почти безмолвствовала и, казалось, пропитывалась накалом чувств, вдруг возникших между Симоном и Руссо.
Симон Лашом в полной мере отдавал себе отчет в собственной подлости, в преднамеренно выстроенном предательстве, лишь орудием и целью которого являлась эта речь. Ему выпала удача, весьма редкая в жизни политического деятеля, когда его измена, казалось, совпадала с интересами страны: и у него доставало ловкости с фальшивой искренностью обнажать трагизм собственного положения.
Воздав необходимые почести Руссо и выплатив положенное из чувства благодарности, Симон проделал то же в отношении Шудлера. Собрания, истощившие силы в идейных спорах, любят, чтобы внимание их неожиданно привлекли к человеческим отношениям.
Симон показал, как ненасытная жажда власти расстроила дела Шудлера в не меньшей степени, чем его мозг.
– Да, действительно, – сказал Симон, – в течение многих лет я был в непосредственном, а затем в косвенном подчинении у господина Шудлера. И я действительно до самых последних дней управлял ежедневной газетой, основным владельцем и президентом которой является господин Шудлер. И я действительно, несмотря на всю мою преданность газете, ее сотрудникам и ее читателям, несмотря на все желание спасти ее от катастрофы, почувствовал, что должен уйти в отставку в тот день, когда господин Шудлер начал писать служебные записки на банкнотах в тысячу франков.
Подобное откровение повергло палату в глубокое изумление.
– Бросьте, перестаньте рассказывать сказки! – вскричал Руссо, разгадавший маневр Лашома и обуреваемый яростью.
– Сказки? – повторил Симон. – Пожалуйста, господин премьер-министр, взгляните сами. – Он достал из кармана пиджака записку Шудлера и громко прочитал: – Ничего страшного. Мы стоим крепко. Стринберга заменю я, подписано – Шудлер… Извольте, господа, извольте, – продолжал Симон, потрясая банкнотой, – вы видите, кому доверяли государственные гарантии.
На скамьях задвигались, раздались негодующие смешки, выкрики.
Руссо смертельно побледнел.
– Но я же ничего этого не знал! Мне-то Шудлер банкнот не посылал! – воскликнул он.
– Вам он посылал другие! – крикнул ему кто-то слева.
– Это чудовищно, это подло! Я не позволю…
– Господа, господа, успокойтесь! – крикнул председатель палаты, громко стуча ножом для разрезания бумаги. – Господин Гурио, я буду вынужден призвать вас к порядку! Тихо, господа! Сегодняшние дебаты превращаются в спектакль, за который вам должно быть стыдно. Надо помнить о чести нашего собрания.
– Я допускаю, господин премьер-министр, что долгие годы личной дружбы, пусть даже в ущерб интересам общественным, заставили вас закрыть глаза на странности в поведении банкира Шудлера, заметные уже в течение нескольких месяцев, – вновь заговорил Симон, чей голос вернул относительное спокойствие на галереях. – Но неужели вы, господин премьер, даже не предположили, что деньги, предназначенные для сообществ, могут использоваться в целях поправления личных дел господина Шудлера? Сделка была заключена четырнадцатого апреля за обедом между ним, Стринбергом и вами…
Собрание вновь забурлило: потянулись руки, депутаты жестами показывали, что сомнений теперь нет.
– Ну вот, все стало ясно! – восклицали они, будто сами никогда в жизни не принимали приглашений деловых людей, а ели всегда в одиночку, в дешевых ресторанах.
– Столь точные сведения я получил непосредственно из уст господина премьер-министра, в ту пору министра финансов… И вы были так мало уверены в солидности сделки, – продолжал Симон, вновь обращаясь к Руссо, – что даже, вернувшись с этого обеда, спрашивали моего мнения о ситуации, в которой находятся оба финансиста.
– О нет, это уж слишком! – воскликнул Руссо, хватив кулаком по пюпитру. – Да ведь вы сами, Лашом, ответили мне по телефону, что положение Шудлера так же прочно, как и положение Стринберга.
Маленькая ладошка Руссо негодующе и возмущенно потянулась к трибуне.
– Простите, господин премьер, – отпарировал Симон почти с иронией, храня полнейшее спокойствие. – Я сказал вам: «Положение Шудлера не представляется мне прочнее положения Стринберга!»
– Но это же просто чудовищно! – вскричал Руссо с перевернутым лицом, обернувшись, словно в попытке найти позади себя, на скамьях палаты, свидетелей его честности.
Тогда встал Робер Стен.
– Позвольте, господа, – скрестив руки, патетически произнес он, – неужели по одному лишь телефонному звонку можно решать вопрос о гарантиях государства?
Ему зааплодировали почти все группы.
– Кем был финансист Стринберг? – продолжал Симон. – Как все мы знаем, господа, он был одним из феодалов международного капитализма, вознесенных на вершину пирамиды вассальной зависимости; а они, как справедливо выразился несколько дней назад один из самых блестящих умов нашего собрания (и Симон сделал жест рукой в сторону Робера Стена), не более чем авантюристы, строящие свои авантюры на мелких вкладчиках.
По мере того как Симон говорил, как он избивал своих прежних покровителей и доходил даже до того, что с изысканной вежливостью воровал мысли своих друзей, он приобретал все большее влияние. С каждым произнесенным словом в голосе его появлялось все больше металла.
– Выходец из народа, – опершись обеими руками на трибуну, продолжал он, – получавший от государства стипендию от начала до конца обучения, до глубины души преданный принципам свободы и равенства перед законом, которые как раз и дают возможность людям вроде меня стать здесь выразителем народных чаяний, я не могу ни поддерживать этих феодалов от финансов, ни присоединяться к тем, кто их поощряет, пользуется их услугами или служит им сам.
Его прервали долгими аплодисментами; и Симон теперь знал, что отныне может управлять не только своей речью, но и всем собранием в целом.
– Стринберг умер, – снова заговорил он, – разорив тысячи людей. Заем на строительство, посулив который господин премьер-министр обрел доверие парламента, не состоялся. Зато фонды для потерпевших поглотил крах банка Шудлера, государственный кредит серьезно подорван, а сами потерпевшие из разрушенных районов по-прежнему спят под навесами.
Робер Стен, нахмурив брови, чувствовал смутное беспокойство. Согласно тщательно разработанному сценарию, он бросил Симона на приступ для того, чтобы тот не только отвел от себя все подозрения, но и сделал несколько необходимых разоблачений Руссо, которые позволят сбросить премьер-министра с кресла. Мысленно Стен оставил себя в резерве на случай, если Симон окажется в трудном положении и ему понадобится помощь или, что было бы еще предпочтительнее, для того, чтобы вслед за ним выложить заготовленные аргументы и добить Анатоля Руссо. И вот пожалуйста, Симон выполнил работу сам, и выполнил ее так хорошо, что все почести достались ему. «В конце концов, – подумал Стен, кусая утолщения кожи на суставах, – главное – свалить Руссо. К тому же успех Симона лишь укрепит нашу партию». Марта Бонфуа, слушавшая выступление своего молодого любовника сначала с большим волнением, потом с гордостью, внезапно подумала: «Теперь он выбрался. – Он не станет тонуть, спасая трупы… Наверняка он далеко пойдет, и это меня радует… Но похоже, во мне он больше не нуждается».
Интерес к выступлению у нее тут же поубавился, она вынула из сумочки зеркало и принялась искать взглядом на скамьях, возвышавшихся позади Робера, молодых депутатов, некрасивых, но интересных, добычу последнего улова, тех, кому она могла еще помочь обрести успех.
– Что же касается моего руководства «Эко дю матен», – говорил Симон, – я передаю отчеты о моем управлении в распоряжение комиссии по расследованию, которую вот-вот должны создать.
До сих пор это слово не было еще произнесено. Анатоль Руссо принял его как удар ножом в живот. Старик скрючился на скамье; во взгляде его промелькнуло что-то болезненное и детское, будто он хотел сказать Симону: «Зачем говорить о комиссии по расследованию? Зачем такая крайняя жестокость? Почему именно ты должен мне причинять столько зла?»
Симон вытер пальцем капельки пота, которые он чувствовал на верхней губе.
– Палата легко может понять, – заключил он, – что в силу изложенных причин для меня невозможно, именно в интересах Республики, и далее поддерживать действия правительства, и, думаю, я могу объявить, что депутатская группа, к которой я принадлежу, целиком займет ту же позицию.
И Симон Лашом сошел с трибуны под дружные аплодисменты, отвратительный и торжествующий.
Руссо поднял глаза на председателя палаты, будто спрашивая, что ему делать; плотный старик, каждые две недели наблюдавший, как, словно карточный домик, разваливается очередной кабинет, изобразил на лице выражение, которое означало: «Ба! Вы же знаете не хуже меня!»
Тогда Анатоль Руссо, опираясь на пюпитр, приподнялся и сказал:
– При таких условиях, господа, я ставлю вопрос о доверии.
Затем его окружили несколько министров, они что-то говорили, но он, казалось, не слишком явственно их слышал: ему было трудно дышать, точно останавливалось сердце, и маленькие красные черточки замелькали в глазах.
– Вам плохо, господин премьер? – спросил кто-то из его министров.
– Нет-нет, все в порядке, – ответил он.
В семь часов пятнадцать минут утра кабинет Анатоля Руссо был свергнут 316 голосами против 138 и сотни воздержавшихся; запрос о назначении комиссии по расследованию был поддержан тем же числом голосов.
В зале Четырех колонн Симон в окружении множества поздравлявших его людей, иные из которых уже завидовали или ненавидели его, осознавал собственную значимость – он свалил первый в своей жизни кабинет.
Внезапно он заметил Руссо. Старик был без шляпы и пытался всунуть руку в рукав пальто. Он влез кулаком под подкладку и, нервничая, упорно шарил по ней, смешной, трогательный, жалкий.
Симон, чувствуя себя неловко, на мгновение задумался, что он должен делать и существует ли в подобных случаях какой-либо обычай. Он решил подойти к человеку, которого только что свалил.
– Послушайте, господин премьер, – заговорил Симон, – мне очень неприятно, но, право же, по совести…
И он машинально протянул руку, чтобы помочь Руссо надеть пальто.
– Нет никакой совести, – вскричал Руссо, – и ты это прекрасно знаешь, нет никакого премьера, ничего больше нет, ничего, кроме мелких негодяев вроде тебя и грязи кругом… Ты, ты, Лашом, разделался со мной… Ты получил шкуру Шудлера, а теперь и мою! Но день придет, вот увидишь… увидишь, придет день…
Резким движением он высвободился из плена пальто: раздался треск раздираемого в рукаве шелка, затем Руссо как-то странно завертелся на месте и, приложив свои маленькие ладошки ко лбу, вышел.
Депутатская группа, к которой принадлежал Симон, тотчас же собралась в отведенном ей зале, чтобы получить первые инструкции к предстоящему важному, полному политической борьбы дню. Было очевидно, что Роберу Стену предстоит сформировать новый кабинет, так же как и то, что Симон Лашом войдет в него по меньшей мере в качестве заместителя министра.
Через несколько минут, во время обсуждения группой очередных вопросов, кто-то вошел в комнату.
– У Руссо только что случился удар, – сообщил вошедший. – Он поднялся в кабинет премьер-министра за своим портфелем и повалился на стол…
Все взгляды непроизвольно устремились на Симона. Он подошел к окну и отодвинул тяжелую двойную портьеру. Яркий дневной свет залил комнату, разом затмив лампы, безжалостно обнажив серые усталые лица, окурки в пепельницах и повисший в воздухе дым. Ночь политических баталий подошла к концу.
Симон увидел, как по вымощенному двору Бурбонского дворца к машине с открытой дверцей медленно продвигаются люди, в движениях которых чувствуется торопливость, осторожность, неловкость одновременно, а посреди, поддерживаемый за плечи, отдался чужим рукам маленький старичок с густыми седыми волосами, на слишком высоких каблуках, без сознания, с болтающейся головой и обмякшим телом.
Симон не сумел отогнать от себя воспоминание о другой машине и о рухнувшей на сиденье старухе. Как и в тот раз, он прошептал самому себе: «Либо он, либо я». Ибо судьбой ему было определено – взбираться на вершину социальной лестницы, шагая по головам стариков, носивших его когда-то на руках.
У разверстой могилы
Начавшийся со смерти Фоша[22] 1929 год закончился смертью Клемансо[23]. Прежде чем на столичных каштанах появились первые почки, пушечный лафет – под бряцание штыков почетного караула и стук сапог принцев крови – медленно вез останки полководца мимо гигантских застывших толп. В траурном шествии выделялись темные брюки министров, треуголки послов и академиков, мантии судейских и профессуры.
Государственный деятель, согласно его воле, был предан земле в саду своего дома в Вандее под шелест последних осенних деревьев.
Никогда выражение «национальный траур» не соответствовало столь точно смыслу происходящего, как в двух этих случаях.
Французская нация присутствовала при похоронах своей собственной значимости, своего места в различных коалициях и, некоторым образом, своего величия, какого, возможно, ей не суждено уж было достигнуть.
Скульптор Ландовский принялся тогда отливать – для одной из самых прекрасных в мире гробниц – восемь бронзовых солдат, призванных нести на своих плечах гроб маршала в нише Дворца Инвалидов. Президент же получил право на бронзовый бюст, вечно овеваемый ветром, стоящий на главной артерии, что соединяет площадь Согласия с Триумфальной аркой.
Между этими двумя кончинами, между двумя тенями-кариатидами, которые, казалось, держали на своих плечах вращающийся глобус дней, 1929 году многое пришлось увидеть: приговор по уголовному делу, возбужденному против одного из министров, чья подпись стояла под Версальским договором; дебюты звукового кинематографа; начало мирового экономического кризиса в тот день (24 октября – одна из наиболее важных дат нынешнего века), когда в результате общего катастрофического падения курса акций на Нью-Йоркской бирже банкир Фабер – только он один – потерял четыреста двадцать пять миллионов.
Закругленный, сбалансированный, упорядоченный в своем беспорядке год, оглядываясь на который люди будущего смогут разглядеть черту, разделяющую разные эпохи.
Перейдя из плоти в бронзу, оба творца Победы определили тем самым, символически и реально, конец послевоенного времени.
Новому поколению – тому, что оставило полтора миллиона своих представителей на полях сражений, – пришло время принимать власть, и среди развала мировой экономики оно успело лишь подготовить новые катаклизмы.
Однажды весенним утром следующего года профессор Эмиль Лартуа остановил машину на узкой, крутой улочке в Виль-д’Авре. На решетке, неряшливо окрашенной суриком, виднелась железная планка, а на ней выцветшими буквами значилось: «Эглантины. Семейный пансион».
Знаменитый врач пересек печальный палисадник, осмотрел три живые изгороди из бересклета, чугунную скамью, небольшую гипсовую статую, избитую дождями, поднялся на крыльцо особняка и толкнул дверь с разноцветными витражами.
– Господина Шудлера, – спросил он полную даму в черной юбке, встретившую его в вестибюле.
Профессор Лартуа отрешился от убожества обстановки, созерцая в зеркале, укрепленном на вешалке для пальто, собственное отражение. Вид ухоженных седых волос, ясного лба, розоватого лица, на котором годы не оставили морщин, красивых рук всегда помогал либо течению его мысли, либо избавлению от меланхолии.
А фигура, появившаяся несколькими мгновениями позже на лестнице, побывала, казалось, в руках театрального гримера.
Белое лицо, обмякшее тело, усохшая вполовину шея, болтающаяся внутри широкого жесткого воротника; ко всему прочему, Ноэль Шудлер отказался от небольшой острой бородки – неотъемлемой части его привычного силуэта. Теперь он носил седую окладистую бороду на манер бретонского рыбака. На плечах Шудлера висел старый вечерний плащ, и он приосанился, спускаясь по узким сосновым ступеням; однако его лицо от волнения кривилось, и слезы, казалось, вот-вот готовы были хлынуть из глаз.
Он протянул врачу левую руку, потому что правая, спрятанная за спину, резко дергалась, приподнимая складки плаща.
– Вы единственный, Лартуа, вы слышите, единственный, кто приехал навестить меня с тех пор, как я здесь… Это Шудлер запомнит, когда снова будет на коне.
Он искал – по-прежнему левой рукой – монокль, висевший на муаровой ленте, монокль в особой золотой оправе, который удобно вставлялся в жирные складки века.
– Мне приятно вас видеть, – добавил он.
– Так что, друг мой, я увожу вас обедать? – предложил Лартуа, стараясь за улыбкой скрыть смущение.
Тень сожаления и беспокойства скользнула по лицу Ноэля Шудлера.
– Дело в том, – произнес он, – что я не предупредил, а они все тут так любезны… Я, наоборот, сказал, что сегодня за моим столом будет гость… Поэтому мне бы не хотелось…
– Так это же чудесно, – заверил его Лартуа, смущаясь все больше.
Бывший управляющий Французским банком провел академика в мрачную столовую, где на покрытых пятнами скатертях красовались початые бутылки с завязанными вокруг горлышка салфетками.
– Добрый день, графиня, – поклонившись, сказал Ноэль Шудлер, проходя мимо старой дамы с ввалившимися щеками и огромными, наполовину вылезшими из орбит глазами.
Старуха с жутким лицом улыбнулась ему, и в этой улыбке промелькнуло воспоминание, хранимое только ею, о ее былом очаровании.
– Это высокородная русская дама… Всю ее семью уничтожили большевики, – прошептал Ноэль Шудлер на ухо Лартуа. – А я здесь не пользуюсь титулом… Тут это никому не нужно.
И высохший, согбенный старый исполин обвел глазами обои в мелкую фиолетовую и желтую крапинку, покрывающие стены.
– Да, – вновь заговорил он, – мне тут неплохо. Садик премиленький – вы видите сами: воздух замечательный… а потом, поскольку кое-кто из обитателей пансиона должен уехать, я смогу занять столик у окна, вон там… Да, ведь это все равно временно…
В паузах между словами рот его по-стариковски оставался открытым.
Подошел официант, из-под грязной куртки торчали тощие запястья.
– О-о! Вот и Тедди, – преувеличенно весело вскричал Шудлер. – Он очень мил со мной, наш Тедди, да, очень мил… Он был раньше барменом на пароходе.
По мере того как все явственнее становились признаки одряхления, Лартуа чувствовал себя еще более неловко.
– То есть, значит, я служил вторым барменом, – нервно, отрывисто и торопливо проговорил официант. – На «Шампоньоле». Вообще-то Тедди – не настоящее мое имя. Это мой старший так меня называл… Да, Марсель – Александрия… Александрия – Марсель – и так все время…
– Да что вы? – любезно вставил Лартуа. – Я как-то путешествовал на «Шампоньоле». Прекрасное судно.
Выражение испуга появилось на лице официанта – страшном лице с черными кругами вокруг глаз, обтянутыми, как у мертвеца, скулами и испорченными зубами.
– А в каком, интересно, году месье на нем был?
– Году, я думаю, в двадцать четвертом, – ответил Лартуа.
– А! Ясно, ясно, я-то тогда еще там не служил, – поспешно вставил Тедди.
И он, трясясь, стал расставлять тарелки, едва не опрокинув на пол графин. Лартуа из жалости отвел глаза от этого враля, которого никогда не звали Тедди, который, по-видимому, никогда не служил барменом на «Шампоньоле» или служил на причале двадцать четыре часа – время как раз достаточное для того, чтобы его уволили за неловкость, – и который жил в постоянном страхе, боясь, что раскроется ложь, хотя ее никто и не думал проверять. Для Тедди пансион «Эглантины» тоже был, вероятно, единственным прибежищем. И взгляд Лартуа вернулся к Шудлеру, с неподдельным интересом, отвесив челюсть, слушавшему их разговор.
– А что Руссо? Как он поживает? – подобравшись, спросил Ноэль Шудлер.
Лартуа не решался сказать ему, что бывший премьер-министр живет, скрючившись в кресле, отказывается чистить зубы и принимать пищу, боясь, что его отравят, а иногда вдруг начинает плакать горючими слезами и лепетать: «Хочу компота, хочу компота, хочу компота…»
– Ему лучше – поправляется потихоньку, – ответил Лартуа.
– Да, мы с ним вместе поправимся, – сказал Шудлер. – Но вы не представляете себе, мой милый, что они со мной сделали! Меня ведь потащили к судебному следователю… Хотя да, вы же все это знаете, потому что благодаря вам меня по состоянию здоровья и оставили на свободе. Но они-то хотели упрятать меня в тюрьму!.. Заставить пройти по уголовному делу… Розенберг тоже повел себя крайне порядочно (речь шла об адвокате Шудлера). Он доказал, что юридически фонды сообществ составляли не совершенные взносы, за которые я должен был вернуть только номинал, и потому обвинять меня в злоупотреблении доверием они не имели оснований. И потом, он вскрыл все политические махинации… Если бы мне дали хоть немного времени, я мог бы все уладить. Но вы и вообразить себе не можете, сколько злобы, сколько ненависти скопилось вокруг меня… Однажды я увидел внука с синяком под глазом. Я спросил его, откуда это. «Да во дворе лицея, – ответил он. – Они сказали, что мой дедушка – мошенник. Ну я и полез в драку…»
От возбуждения правая рука задергалась угрожающе сильно.
Исполин умолк, чтобы положить себе зеленого салата. Операция оказалась деликатной и трудоемкой. И Шудлер, похоже, непременно хотел справиться сам. Лартуа не решался прийти ему на помощь и заполнял паузу ничего не значащей болтовней. Шудлеру удалось донести ложку, полную салата, до своей тарелки, но во второй раз она выскользнула у него из пальцев, и листья разлетелись по скатерти и даже попали в бокалы.
Тогда он покорился, бросил ложку в салатницу; взяв левой рукой свое правое запястье, сумел сдержать спазматические подергивания, постепенно укрощая их, как если бы больная рука была неким чужеродным, независимым от него телом, например курицей, которую он держал бы, не давая вырваться на свободу. Затем левая рука положила правую на стол и не отпускала ее до тех пор, пока подергивания совсем не прекратились – лишь указательный палец продолжал легонько царапать скатерть. Наконец-то – победа! Но, добиваясь ее, бывшему банкиру пришлось так сильно напрячь внимание и волю, что нижняя челюсть его обвисла. Из широко открытого, чуть напряженного рта все больше и больше мелкими толчками высовывался загнутый язык, и Ноэль Шудлер со своей круглой моряцкой бородой и лентой монокля походил на голову из пассбуля, в который играли когда-то дети[24].
Внезапно он заметил, что с ним произошло, и, слишком торопливо заглотнув язык, выронил монокль. Тогда рука вновь пустилась в свой неистовый пляс, и все началось сначала, и на лице старика появилось выражение безнадежной тоски.
«Отличный пример старческой пляски святого Витта, – подумал профессор Лартуа. – Какая амплитуда и в то же время беспорядочность! И самое тягостное, что мозговые расстройства у него отстают, – возможно, лобные доли еще не затронуты и склерозируют только ядра полосатого тела. Состояние рассудка у него ничуть не хуже, чем до катастрофы. В сущности, клинико-анатомическая картина никогда не бывает достаточно полной…»
– Они все у меня забрали, мне все пришлось продать, – продолжал Ноэль Шудлер, – все, вплоть до колец моей жены, вплоть до жемчужин с пластрона сына, вы слышите, Лартуа, жемчужин, которые он носил на груди… Четыре портрета из большого кабинета и ордена – я так хотел, чтобы Жан-Ноэль в один прекрасный день получил хотя бы это. Так Жаклин пришлось перекупить их через подставное лицо и спрятать в одной из нежилых комнат. Бедной малышке тоже пообтрепали перышки – она потеряла три четверти своего состояния. Так вот, она единственная повела себя по-человечески. И даже прислала мне немного денег, тайком от мужа, я полагаю. Но я ей скоро их верну…
Тедди торопливо, то сгибаясь, то выпрямляясь, иной раз почти касаясь подносом пола, скользил между столами, точно по столовой парохода во время сильной качки. Иногда он отвечал клиенту:
– Yes, sir![25]
– Вы представляете себе, Лартуа, – снова заговорил Шудлер, – что чувствовал я в последнее утро на авеню Мессины? Никакой обстановки, ни занавески, ни даже ковра на лестнице; никого из слуг – впрочем, об этом и говорить не приходится… Я сам собирал чемодан; я прошел по всем комнатам – обошел их одну за другой – по всему нашему просторному дому, который построил мой отец и куда я вошел впервые, когда мне было семь лет… Вы вообразить себе не можете, как раздаются в пустом доме шаги одинокого старика… А потом я спустился в кухню посмотреть, не могу ли я подогреть себе чаю. И понял, что за десять лет я и четырех раз, наверное, туда не зашел… И вот тут вдруг я осознал, что разорил своих внуков.
Лицо старика вновь задергалось; рука забилась сильнее, зацепилась за ленту монокля и разорвала ее.
К счастью, стекло не разбилось, но драма для Шудлера началась тогда, когда он захотел снова просунуть ленточку в петлю оправы.
– Подождите, дайте-ка я, – сказал в конце концов Лартуа.
– Они потребовали с меня сто двадцать семь миллионов, – сказал Шудлер, – а получили в конечном счете сто двадцать три. Остальные четыре я им должен. Неужели вы считаете, что из-за четырех миллионов стоило причинять мне столько горя? Да неужели я не нашел бы этих четырех миллионов?.. Но вот это они все-таки мне оставили, – добавил он, показывая на розетку командора ордена Почетного легиона, всю вытертую, выношенную до такой степени, что под обтрепавшимся шелком просвечивал металл.
Старая дама с глазами навыкате («Зоб с вылезанием глаз из орбит… и к тому же у нее, безусловно, тахикардия», – подумал Лартуа), закончив обед, подошла к их столу…
– Вы хотите газету? – спросила она у Ноэля Шудлера.
– О, благодарю вас, графиня, – ответил Ноэль, привставая со стула. – А вы хотите сигарету?
Оба старика из экономии поступали так каждый день.
– Я вас не представил, – сказал Ноэль, когда русская графиня вышла, – потому что она застряла бы на час… А газету я смотрю только из-за объявлений, – продолжал он. – Раньше я никогда не обращал на них внимания. А знаете ли, это очень интересно. Можно проследить всю экономическую активность страны… Я очень быстро встану на ноги… Там еще есть идеи, много идей. – И указательным пальцем левой руки он постучал себя по лбу. – Да, тут как-то со мной произошел курьезный случай, – продолжал он. – Вижу я в газете: «Молодая пара ищет приятного гостя на обеды». Звоню, иду туда. Во-первых, как-никак еда, верно ведь, и потом, для меня это совсем неплохо – мне нужно возобновлять контакты! Представляюсь: «Барон Шудлер». Они вовсе не потрясены – милая заурядная пара. Хороший обед. И я, как мне кажется, гость вполне приятный. И вдруг жена опрокидывает стакан. Я не нахожу в этом ничего из ряда вон выходящего: в любую минуту и со мной всякое может произойти! Но муж принимает грозный вид и говорит, погрозив жене пальцем: «Ты снова опрокинула стакан? А ты знаешь, что сейчас будет?» – «Да, да, я заслужила это», – хныкая, отвечает жена. Они встают, он зажимает ее под мышкой и, задрав ей юбки, бьет по попе. Затем они садятся как ни в чем не бывало. Вот, дорогой мой, вот для чего они меня позвали! Мужчина испытывает потребность отшлепать свою жену в присутствии постороннего. Согласитесь, мир катится в тартарары.
Он протянул было руку к газете.
– Хотя нет, – осекся он, – у меня будет время, когда вы уйдете.
Но Лартуа чувствовал, что мысли Шудлера уже всецело поглощены тайной скупых мелких строчек, где он отыскивал крохи надежды. И эта его навязчивая идея производила более гнетущее впечатление, чем все остальное.
Лартуа, отхлебнув, поставил чашку горького бледного кофе.
– Надо вам приехать как-нибудь ко мне на прием, и я вас тщательно обследую, – проговорил он. – Увидите, у меня есть превосходные аппараты – померяю вам давление, сделаю рентген.
– У меня иногда еще и нога болит… – стесняясь, произнес Шудлер.
– Посмотрим… посмотрим, что можно сделать. О! Я уверен, что у вас сердце юноши! – отозвался Лартуа.
Уже с порога взгляд его снова наткнулся на обтрепанную розетку ордена, которую носил барон.
Тогда он торопливо вынул собственную розетку и вложил ее в руку друга.
– У меня в Париже их много, – сказал он. – Тогда как здесь, я не думаю, чтобы торговцы… Когда взбираешься так высоко, как мы, трудно становится найти необходимые аксессуары.
Профессор Лартуа обладал почти всеми недостатками, которые, словно лишай, прилипают к людям, наделенным слишком многими талантами от рождения, испытавшим в юности слишком большой успех и удостоенным слишком многих почестей в зрелости. И все-таки он, как религию, чтил дружбу.
На другой день после визита в Виль-д’Авре он нашел Симона Лашома. Тот занимал пост заместителя министра изящных искусств в кабинете Стена – единственной комбинации на протяжении долгого времени, которую можно было считать хоть сколько-нибудь стабильной. Кроме того, после краха Шудлера он устроил своей партии покупку «Эко дю матен» и стал совладельцем этой крупной газеты, занимая там господствующее положение.
– Дорогой Лашом, – начал Лартуа, откинув голову назад, своим чуть свистящим голосом, – дорогой Лашом, вы не имеете права оставлять этого человека в том нищенском состоянии, в каком он находится, и позволять, чтобы он занимался поисками объявлений в газете, принадлежавшей ему. Это чудовищно! Согласен, он совершил достаточно глупостей, но не нужно забывать, что, если бы однажды он не основал этой газеты, вы бы тут не сидели… я имею в виду и вас, и остальных. Так вот! Я считаю, что в какой угодно форме, но все вы обязаны – я не говорю, выстлать ему золотом мостовую, но, в конце концов, дать ему возможность более или менее пристойно дожить до конца своих дней, купить пару-тройку рубашек и взять такси. Шудлер какое-то время, и даже очень долгое время, был в центре парижской жизни. Когда я вспоминаю, какие он устраивал приемы, какой водоворот дел и идей всегда вокруг него клубился, скольких он прямо или косвенно вывел в люди…
Лартуа перевел дыхание.
– Возможно, мне не очень ловко об этом говорить, – добавил он, – но я не могу не вспомнить, мой дорогой Лашом, что ваша первая статья появилась именно здесь, и я не ошибусь, если скажу, что заказ на нее вы получили именно благодаря мне.
Но Симон был уже настолько циничен и уверен в себе, что подобные напоминания, казалось, его ничуть не задевали.
– Но, послушайте… помню ли я! – протянув к Лартуа руки, вскричал он. – Смерть Жана де Ла Моннери… Слово, в котором он указал на вас как на своего преемника в Академии… Да знаете ли вы, что я до сих пор храню письмо, которое получил от вас на следующий день, где вы как раз пишете, что рекомендовали для этой статьи меня?.. Так что это вам, милый друг, я обязан всем, что со мной потом произошло. Да, да!.. Но уверяю вас, – продолжал, – я не знал, в каком положении находится Шудлер. Хорошо, что вы предупредили меня: я тотчас же проверю и сделаю все возможное… Ах, подумайте, дорогой мой и знаменитый друг, – добавил Симон, провожая академика, – я ведь имел неосторожность сказать, что планка офицера ордена Почетного легиона для вас совсем уже на подходе… О! Фактически ничего еще нет… но я, право, не знаю, может быть, в конце концов, в связи с празднованием Четырнадцатого июля…
И Лартуа, который по дороге сюда думал: «В самом деле этот Лашом – мелкий негодяй, и сейчас я ему выдам!» – уходя, говорил себе: «В сущности, он совсем неплохой малый!»
Симон Лашом не преминул на следующем заседании дирекции «Эко» рассказать о положении Шудлера и внес предложение – будто идея принадлежит ему – исправить дело. Все были тронуты подобным великодушием.
Результатом явилось письмо, адресованное Ноэлю Шудлеру, где «Эко дю матен» предлагал ему ежемесячное вознаграждение в размере девяти тысяч франков (почти жалованье главного редактора) как советнику, курирующему полосу, посвященную бирже. Разумеется, любые его советы и критические замечания будут приняты с живейшим интересом, но ему вовсе не вменяется в обязанность какое-либо регулярное присутствие.
В деликатности своей Симон дошел даже до того, что не стал подписывать письмо. Невозможно было проявить благотворительность в более учтивой форме, как невозможно было яснее дать понять Шудлеру, что его присутствие в газете нежелательно.
Письмо это стало для Шудлера началом Ста дней.
Он тут же уложил багаж, взял машину от Виль-д’Авре до площади Согласия, расплатился с шофером через портье отеля «Крийон» и, показав язык главному администратору, снял апартаменты на лучшем этаже.
«Мальчишки! Мальчишки! – повторял он про себя. – Я был в этом уверен. Без меня они с газетой не справляются. Через полтора месяца я снова все приберу к рукам!»
И он тотчас закатил серию обедов и ужинов, «чтобы возобновить контакты». Он приглашал вперемешку – и прежних друзей, и прежних врагов, и забаллотированных парламентариев, и министров, лет десять назад лишившихся портфеля, и полнейших ничтожеств, и мошенников, которых он где-то случайно встретил накануне, и мелких охотников за наживой. Он не мог слышать разговора о каком-либо деле или проекте, чтобы не сказать: «Зайдите, зайдите ко мне. Мы это обдумаем. У меня в руках будут очень большие средства». На некоторое время он стал патриархом странного скопища неудачников, разочарованных, отчаявшихся людей, прикоснувшихся когда-то к успеху, или же тех, кто, перевалив за шестьдесят, так никогда и не повстречавшись с ним, считали еще, что стоят на правильном пути.
Шудлер носил, не снимая, свой вечерний плащ, чуть хромал и пугал клиентуру в холле отеля.
В «Эко» он появлялся каждый день, водил рыбацкой бородой по письменным столам, не замечая, сбрасывал на пол чернильницы и перья художников – словом, вносил беспорядок всюду, вплоть до мраморных плит вестибюля.
Сначала делая вид, будто ему нужен лист бумаги, затем незаметно примостившись на краешке стола и наконец плотно усевшись в кресле, Шудлер снова занял свой кабинет, и Симон, придя в редакцию, не знал, как его выселить.
К концу месяца счета Ноэля Шудлера достигли почти ста тысяч франков. Тогда его безоговорочно попросили вернуться в Виль-д’Авре, предложив лишь ежемесячно выплачивать пенсию.
– Ах, значит, я обязан там жить, значит, это ссылка! – вскричал Шудлер.
Симон опустил глаза и пожал плечами в знак полного бессилия.
В лесах пахло фиалками. Длинноносые мелкопоместные дворяне, которые лишь осенью получали удовольствие от жизни, ворчали, отступая под натиском аромата цветов и теплого воздуха. Собаки сидели по псарням, а их хозяева – по своим замкам. Лес, на несколько месяцев покинутый охотниками в желтых костюмах, отдался естественной тишине, брожению соков и скрещиванию пород.
Маркиз де Ла Моннери, удивленный тем, что прожил еще и этот год («Смерть заставляет меня ожидать в прихожей», – говорил он, когда справлялись о его здоровье), поменял зимний ритм жизни и долгие часы дремы или ожидания возле камина с грифонами на летний распорядок дня.
Каждый вечер, если позволяла погода, слепец, отужинав пораньше чем-нибудь молочным, приказывал вынести кресло и установить его на своего рода естественной террасе перед мрачным фасадом замка Моглев, вздымавшимся над деревней.
Там, накрыв ноги покрывалом, опершись седым ежиком волос на спинку кресла, маркиз в течение двух часов слушал звуки набирающей силу природы и шум, доносившийся из деревни. Возвращались последние повозки, распряженные лошади позвякивали свисавшими по бокам цепями, умолкали пилы камнетесов. Вот кузнец начал ссориться с женой, послышался плач разбуженного ребенка, звяканье ложек о миски и хлесткие шлепки грязной воды, выплескиваемой из тазов прямо на землю во дворе. Затем в воздухе появлялась прохлада и мягкость, и в покое, разлившемся в мире, становились слышней голоса. До ушей старого феодала, расположившегося наверху, перед воротами своей крепости, доносились перешептывания крестьян, усевшихся на пороге своих лачуг. Благодаря голосам, долетавшим до него по вечерам, Урбен де Ла Моннери узнавал тысячу новостей о деревенской жизни, о браках, о болезнях, об изменах и рождениях; он знал, что сказал кюре жене Гранжома, знал, уродилась ли нынче пшеница и почем продавалась тонна сена; он слышал также, что говорили крестьяне о нем самом, о Жаклин и Габриэле, о слугах… Впрочем, ничто из услышанного не имело для него большого значения: это лишь развлечение, которое могло повторяться бесконечно, ибо утром он всегда забывал, о чем слышал накануне вечером. И коль скоро шумы эти и голоса все чаще сливались для него в единый негромкий вязкий гул, из которого он не мог вычленить ни точных слов, ни звуков, маркиз стал задаваться вопросом, не отказывает ли ему кроме зрения и слух. Он ощущал, что умирает по частям, по мере того как утрачивает чувства и способности. Потеря памяти, частичная потеря рассудка, слепота, а завтра, возможно, и глухота, а однажды и паралич…
«Хотелось бы знать, – думал он тогда, – что же нам остается для того, чтобы узнавать друг друга там… Но в конце концов великодушный Господь наверняка дает нам какой-либо другой способ…»
В эти дни он довольствовался тем, что вдыхал, заглатывал воздух, наполняя им дыхательные пути, свои старые легкие, забитые, потерявшие эластичность артерии, – и даже это приносило ему удовлетворение. Сознание того, что он существует, и было единственным счастьем, оставшимся еще маркизу. А коль скоро натура у него была очень здоровая, вместо того чтобы озлобиться, когда возможности ограничились до предела, он, наоборот, использовал последние жизненные силы до конца.
Однажды вечером, когда маркиз де Ла Моннери сидел в обычном состоянии чуткой полудремы, размышляя ни о чем, на площадке послышались шаги, не принадлежавшие кому-либо из слуг. Это оказался майор Жилон, который подошел к маркизу, чуть задыхаясь, и у старика возникло ощущение, что вокруг него теперь весь вечер будет жужжать громадный шершень.
– Дорогой друг, я приехал сообщить вам не слишком приятную новость, – с места в карьер начал бывший драгун.
– Неужели!.. И в чем дело? – осведомился маркиз.
– Так вот… наш бесценный друг, госпожа де Бондюмон…
Жилон сказал «наш», выказывая тем самым и деликатность, и понимание.
– Одиль, конечно, – промолвил маркиз. – В самом деле, я давно уже ее не видел. Когда она приезжала в последний раз? Я что-то не припоминаю.
– Она очень больна, – выпалил Жилон.
– Ах, вот как! И что же с ней?
– И сердце, и… словом… с ней очень плохо.
Маркиз откашлялся.
– Она умерла? – спросил он.
– Нет, дорогой друг, нет, я бы вам сразу сказал, будьте уверены! – ответил Жилон и, выдержав паузу, добавил: – Нет… пока еще нет.
Затем, обеспокоенный, он подождал реакции старика. Но ее так и не последовало.
– Это, может быть, вопрос нескольких часов. Мне кажется, вы должны туда поехать, – снова заговорил Жилон.
«В сущности, ужасно взваливать такое бремя на плечи старика, – подумал он. – И хотя он не проявил никакого волнения, там с ним может случиться удар…»
В который уже раз судьба заставляла Жилона вмешиваться в дела других и касаться вопросов деликатных, причем его топорная дипломатия лишь осложняла дело.
– Да, да… вы правы, мне нужно туда поехать, – проговорил маркиз. – Ну что же, сейчас прикажу запрягать.
– Нет, что вы, я отвезу вас – я на машине. Вам будет удобнее, и мы быстрее доедем.
– Ах да! Верно! У вас ведь автомобиль!
Старик потряс бронзовым колокольчиком с деревянной ручкой, лежавшим рядом с ним на траве. Казалось, будто похоронный звон прокатился по крышам и гумнам деревни, и крестьяне внизу стали говорить:
– Гляди-ка! Господин маркиз зовет Флорана раньше, чем обычно. Может, ему нехорошо, а может, это из-за майора, который давеча приехал?
Флоран появился на площадке, сипя и шаркая ногами.
– Флоран, одеваться! – приказал маркиз. – Мне нужно ехать в Жуэнври.
Старик дворецкий поспешил обратно в замок.
«Так, так, что же мне, прямо сейчас ему сказать или подождать, пока мы тронемся в путь, – размышлял Жилон, выполнивший лишь часть – притом наименее деликатную – своей миссии. – Если я скажу ему сейчас, он может взбрыкнуть или захочет подумать. А если я скажу только в машине, у него сложится впечатление, что это западня… И зачем только я ввязался в эту историю? Но, в сущности, Господу, должно быть, на это наплевать. Правда, мне бы хоть сообразить привезти кюре – вот что нужно было сделать. Вот ведь всегда я обо всем думаю слишком поздно. Нет, я не вправе, я должен сказать ему прямо сейчас».
И он, просунув язык в дырку, где не было зуба, для храбрости прищелкнул языком.
– Ваша подруга, – сказал Жилон, – примет сейчас последнее причастие.
– О да! Это необходимо! – отозвался маркиз.
– Так вот, она хотела бы… только не сердитесь на то, что я сейчас скажу, – я ведь только передаю ее волю, – продолжал Жилон, слегка запинаясь. – Я могу говорить без обиняков, не так ли? Если только я правильно понял, между вами и ею существовала…
– Что? Что вы хотите сказать? Что она была моей любовницей? – с легким нетерпением проговорил маркиз. – Да, конечно, и вы прекрасно это знаете. Такого рода вещи невозможно скрывать вечно. Главное не то, чтобы об этом не знали, а чтобы не слишком много говорили.
– Так вот, ваша подруга хотела бы принять одновременно и другое таинство – для которого необходимо ваше присутствие, – чтобы предстать перед Господом безгрешной, – продолжал Жилон. – Словом, выражаясь яснее, она хотела бы умереть, обвенчавшись с вами. Вот!
– А! – только и произнес маркиз.
В эту минуту появился Флоран с ворохом вещей. Он помог хозяину надеть пальто, завязал ему вокруг шеи шерстяной шарф, натянул на руки вязаные перчатки, точно, выйдя из стен Моглева, старик попадет сразу из весеннего тепла в морозную зиму.
Слепца проводили к машине и осторожно усадили на сиденье, устроив между коленями трость.
«Надо же, чтобы так не повезло, – думал Жилон, трогаясь с места, – и это случилось как раз, когда Жаклин и Габриэль в Париже… Конечно, я мог бы попытаться позвонить им, но на это ушли бы часы. Да и, возможно, их нет дома. А главное, это все равно ничего не изменит. Я же знаю Жаклин. При известном ханжестве, которое ей свойственно, она сочтет, что все правильно. Главное только – не опоздать».
Дорога в Жуэнври была вся в буграх и рытвинах. Жилон вел с максимальной скоростью, стараясь, однако, выбирать места поровнее и время от времени бросая взгляд на восьмидесятисемилетнего жениха, чья суженая, возможно, к их приезду будет уже мертва.
Неожиданная прогулка, ночной воздух и рычание мотора, казалось, приободрили маркиза. Он вспомнил, что не так давно уже ездил с Жилоном на похороны брата, генерала, в церковь Дворца Инвалидов.
– А я думал, мне больше не представится случая выехать из Моглева, – вдруг произнес он.
Мир стариков, ограниченный вначале парком или садом, затем каким-нибудь укромным уголком в саду, потом порогом, потом комнатой, куда ведет лестница, по которой они больше не спустятся, потом брюками и курткой, висящими на спинке стула, которые они больше не наденут… Смерть неумолимо надвигается на них до тех нор, пока их жизненное пространство не ограничится точными размерами – размерами могильной ямы.
Урбен де Ла Моннери был скорее рад неожиданному путешествию, прервавшему монотонность ежедневного отступления.
Он вполне отдавал себе отчет, в чем цель его выезда. Он ехал к Одиль, чтобы некоторым образом «оформить» их отношения. Он не ответил Жилону ни «да», ни «нет» не из осторожности, а только из нерешительности и отсутствия воли. Идея этого брака in extremis[26], этой серьезной, но вполне теоретической акции, этого обязательства, касавшегося только прошлого, пробудила в нем лишь отзвук ослабевших струн воспоминаний.
А пока он позволял везти себя, не заботясь об осторожности, покоряясь обстоятельствам и чужой воле.
У него была супруга, Матильда, чьи прекрасные черные волосы и бледное лицо часто вставали перед его мысленным взором. Самая красивая женщина Франции после императрицы, как считал он. К несчастью, слишком узкие бедра. И ребенок тоже умер. В отместку провидению Урбен даже забыл, где находится в Моглеве портрет Матильды.
Почему он так и не женился на Одиль, когда она в свою очередь – вот уже больше двадцати лет назад – овдовела? Прежде всего, из страха показаться смешным – они находились уже в том возрасте, когда обычно празднуют золотую свадьбу, а кроме того – вопрос условностей, принципов и привычек. Одиль была из буржуазной семьи, так же, впрочем, как и Бондюмоны. В тот единственный раз, когда она затронула с Урбеном вопрос о замужестве, он обрезал ее крайне жестко.
– Законно или нет, – ответил он, – я никогда не поселю свою любовницу в Моглеве. И тому препятствует множество причин.
Больше за все двадцать лет Одиль никогда к этому не возвращалась…
Жилон резко затормозил, и в ту же секунду маркиз во мраке привычной тьмы как будто различил маленький желтый огонек.
«Смотри-ка, я что-то увидел!» – подумал он.
– Молокососы, едут прямо на нас с зажженными фарами! – вскричал Жилон.
Встречная машина проехала мимо, скрипя рессорами.
Маркиз положительно был доволен неожиданной прогулкой. Давно уже его чувства и разум не действовали столь активно.
Урбен де Ла Моннери сосредоточился, пытаясь вспомнить большой, длинный и низкий дом, увенчанный высокой крышей в стиле Мансара[27]. Он видел этот дом осенью в красноватой сетке ампелопсиса, а сейчас его стены были скрыты плотной завесой зеленеющих вьющихся растений.
Поднимаешься на три ступеньки, чтобы войти в дом, и спускаешься на одну, чтобы пройти в комнату слева…
– Я аббат Проше, – произнес кто-то, под чьими тяжелыми шагами заскрипел состарившийся паркет.
– А! Добрый вечер, господин кюре, – ответил слепец, протянув ему два пальца поверх набалдашника трости.
Кюре поспешил взять эти два пальца и легонько пожал их, склонившись, точно он собирался поцеловать кольцо епископа.
– Позвольте, господин маркиз, служителю церкви, – сказал он, – почтительнейше принести вам свои поздравления по случаю того, что вы собираетесь сделать. Это очень, очень хорошо… для успокоения ее души и даже для вашей, господин маркиз.
Еще под чьими-то шагами скрипнули половицы.
– Вот и господин мэр, – сказал кюре.
– А! Ну что ж, я вижу, все было подготовлено, – заметил маркиз.
Поднимаешься на ступеньку, чтобы пройти в спальню. «Нет ничего глупее этих домов в один этаж – всюду ступеньки», – подумал Урбен де Ла Моннери, возвращаясь к заключению, сделанному им уже раз двадцать.
– Добрый вечер, Одиль, – уверенно произнес он. – Что, здоровье пошаливает?
Ему никто не ответил.
– В чем дело? – заговорил он громче, уже теряя терпение. – Почему вы молчите?
Ответом снова было молчание, в котором различалось лишь едва слышное шуршание простыни под рукой.
Маркиз не мог видеть обращенных к нему глаз старой дамы, полных надежды, благодарности, восхищения и любви. Вертикальные морщинки на ее лице собрались и умножились настолько, что она стала похожа на обрез старой книги или на черствое пирожное «наполеон».
Жилон тихонько взял маркиза за рукав и увлек его в соседнюю комнату.
– Мы сейчас вернемся, – сказал Жилон, отвечая на тревожное выражение, появившееся в глазах умирающей. – Она не может говорить, – продолжал он, обращаясь к слепцу, когда они оказались по ту сторону двери. – Последними ее словами была просьба устроить ваш союз. Мы даже не знаем, слышит ли она еще.
Подошел кюре.
– Что касается свидетелей, у нас есть майор, не так ли? И потом, я думаю, могла бы подписаться служанка госпожи де Бондюмон…
– О нет! – отрезал Урбен де Ла Моннери. – Если бы меня предупредили, я взял бы моего дворецкого или моего доезжачего. Но я не желаю иметь дело с горничной, которой я не знаю.
И все почувствовали, что тут старик останется непреклонен.
– Хорошо, – нашел выход кюре, – тогда господин мэр подпишется на приходском свидетельстве, а я – на свидетельстве мэрии.
– Я не уверен, законно ли это, – отозвался мэр, почесав лоб. – А в общем-то, в сущности… почему бы и нет?
– Нужно, чтобы нас ни в чем не могли упрекнуть, – сказал кюре.
Они озадаченно посмотрели друг на друга.
– Да нужно просто съездить за Дуэ: он живет тут совсем рядом! – воскликнул маркиз.
– Черт побери, блестящая идея, – подтвердил Жилон. – Я сейчас же за ним съезжу. Пойдите, побудьте пока с ней; а я постараюсь обернуться как можно скорее.
Он провел маркиза через ступеньку, ведущую в спальню. Кюре пододвинул к кровати кресло. Затем, когда старик уселся и освободился от шерстяного шарфа, который завязал ему Флоран и от которого кровь прихлынула у него к голове, Жилон взял его руку и положил на простыню. Под высохшей сморщенной ладонью слепца оказалась рука старой дамы с плотно сжатыми пальцами – рука, похожая на маленькую ощипанную птичку.
И старые любовники, которых уже коснулась смерть, ослепив одного и схватив за горло другую, оставались так неподвижными в течение долгих минут. Внезапно кровать затряслась, точно старую даму охватил припадок смеха или рыданий. Но это лишь потому, что в теле ее вдруг появились какие-то силы от прикосновения руки любимого, и она вся задрожала, от затылка до колен.
Кюре и мэр, усевшись бок о бок за один стол, оба обрюзгшие, с грязными ногтями, оба сосредоточенно заполнявшие бумаги, походили на толстых школьников, списывающих друг у друга домашнее задание.
«29 мая 1930 года, в 22 часа, в нашем присутствии предстали при свидетелях…»
– Простите, господин маркиз, назовите, пожалуйста, ваши имена, – попросил мэр.
– Урбен, Антуан, Жак… Погодите, у меня ведь было еще одно.
– О, неважно, этого довольно. А девичье имя госпожи де Бондюмон?
Маркиз глубоко вздохнул.
– Мулинье, – недовольно ответил он.
– Вы не знаете даты ее рождения?
– О! Оставим пока так, завтра напишем, – шепнул ему кюре, чувствуя, что допрос неприятен маркизу и может все испортить.
– Да, но это не вполне законно, – повторил мэр.
– В сущности, – прошептал маркиз, ни к кому не обращаясь и не оставляя скрюченной ручки Одиль, – мы принадлежим к тому классу, которого достойны.
В эту минуту послышался шум мотора – приехал Жилон; дверцы отворились, выпуская тучного виконта Дуэ-Души, обутого в стоптанные туфли, которые он надевал по вечерам, собираясь отужинать в одиночестве у себя в замке.
– А! Это ты, Мелькиор, – мы тебя побеспокоили, – проговорил маркиз.
– Сущая безделица, – ответил бывший представитель усопшего претендента на престол.
Присутствие толстяка, его лицо цвета яичного белка, козлиная бородка, белесые круги вокруг глаз будто ярче выявляли, придавали бо́льшую рельефность всему в спальне: небольшому пыльному балдахину над кроватью умирающей, слабому свету, пропускаемому абажурами, запаху лекарств и старости, въевшемуся в жуйское полотно, изъеденное ржавчиной и местами сгнившее от сырости. Жилон заметил, что у Мелькиора де Дуэ-Души на виске вздулась большая мясистая шишка, наполовину скрытая волосами.
С гражданскими формальностями было покончено в несколько минут.
– Считаем, что статьи зачитаны, – произнес мэр. – Объявляю вас мужем и женой.
– Мы подпишем оба свидетельства вместе, – шепнул ему священник, почувствовав, что необходимо торопиться, ибо дыхание умирающей опасно участилось и подобие тени скользнуло по ее лицу.
Священник как только мог сократил молитвы.
– Готовы ли вы признать здесь присутствующую Одиль вашей законной супругой, по всем канонам нашей матери-церкви? – повернулся он к маркизу.
– Да, готов, – твердо проговорил маркиз.
– Готовы ли вы признать здесь присутствующего Урбена…
Старая дама, которая не могла уже явственно различать звуки, прекрасно понимала, что происходит вокруг нее. Ее «да» выразилось неопределенным хрипом и отчаянным выражением маленьких глаз, утонувших в складках вертикальных морщин.
– Ego conjugo vos in matrimonium…[28] Дрожащим усилием старая дама подтащила к себе руку маркиза и долго лихорадочно прижимала ее к своим узким, сморщенным губам, упиваясь наконец осуществлением мечты, в течение двадцати лет владевшей всей ее жизнью.
Нужно было разъединить их руки – ту, что походила на сухую ветвь, и ту, что походила на закоченевшую птичку, – и провести по двум свидетельствам, помогая вывести странные знаки, ничуть не похожие на их прежние подписи.
От усталости, вызванной этим последним усилием, маркизу казалось, что не только глаза, но и все его члены сразу ослепли. По-прежнему сидя в кресле, наклонив вперед голову с седым венчиком волос, покуда кюре, манипулируя шестью кусками ваты, приготовленными на блюде, отправлял старой даме последнее миропомазание, он уснул. Она тоже.
Когда Жилон разбудил его, он не сказал, что Одиль умерла. Впрочем, Урбен и не спросил ничего, дав завязать вокруг шеи шерстяной шарф и препроводить себя в машину.
На следующее утро он проснулся позже обычного. А еще через день совершенно забыл об этом браке и никогда о нем не говорил.
Связь Марты Бонфуа с Симоном Лашомом стала остывать, но не совсем угасла. Марта никогда не порывала со своими любовниками. Просто фотография Симона с тех пор, как он стал заместителем министра, заняла соответствующее место на камине. И когда Симон время от времени оставался на ночь, а вернее, проводил полночи на набережной Малаке, это было для него как бы прикосновением к прошлому, впрочем, прикосновением вполне еще плотским.
Перевалив за сорок, Симон с каждым годом все больше подпадал под власть двух навязчивых идей: с одной стороны, познать настоящую любовь, а с другой – обладать возможно большим числом женщин, женских тел. Квадратура круга в целом усложнялась еще и служебными, и деловыми, и общественными его обязанностями…
А на деле чаще всего Сильвена исполняла для Симона роль, какую он назвал про себя «временной заменой».
После не слишком блистательного возвращения с Неаполитанской улицы в компании Вильнера Симон послал актрисе цветы, а потом как-то в свободный вечер пригласил ее поужинать.
Постепенно Симон привык, лишь только у него выдавалась на неделе свободная минута, – одновременно сожалея, что не проведет этого времени в одиночестве, – звонить Сильвене. Обычно она тоже оказывалась свободна или старалась освободиться.
Отношения их были отмечены веселым цинизмом. Обстоятельства, при которых они когда-то познакомились и потом снова встретились, не могли способствовать слишком большому уважению друг к другу. Однако их положение в Париже льстило обоим. Общность взглядов, во всяком случае общие темы для разговоров, способствовала взаимопониманию. Между ними установилось некое доверие, в какой-то мере напоминавшее сообщничество: не собираясь втирать друг другу очки в надежде снискать уважение, они говорили о прошлом вполне откровенно. А самое главное, они прекрасно сочетались в любовных играх: она привносила в них темперамент, опытность, полное отсутствие стыдливости, он – силу, не лишенную известной утонченности.
Все это оба знали и без обиняков высказывали друг другу. Отношения между ними были искренние, товарищеские, вполне товарищеские. И называли они друг друга на «ты».
Они и в самом деле были существами одной породы, одинаковой силы, и каждый бессознательно старался не дать другому превосходства над собой.
Как-то в середине июня Симон Лашом повстречал Изабеллу, одну из своих первых любовниц. Изабелла, располневшая от невостребованных гормонов, с темными кругами вокруг глаз, черными волосами и рассеянным взглядом, казалась, как всегда, возбужденной и мятущейся.
– И что вы сейчас делаете? – спросил Симон так же машинально и с профессиональным безразличием, как он обратился бы к какому-нибудь художнику, журналисту или чиновнику.
– Не знаю, – ответила она. – Может быть, отправлюсь путешествовать. Если только в следующем сезоне не поеду на охоту с Жаклин…
Во время разговора она то надевала, то снимала очки в черепаховой оправе, точно в своей болезненной нерешительности не могла понять, хочет ли она четко видеть, или же не хочет себя портить, или все-таки хочет четко видеть…
– Чего я хочу на самом деле, так это усыновить ребенка. И я думаю об этом все чаще. Теперь, когда по возрасту я имею на это право по закону…
«А можно было уже и раньше», – подумал Симон.
– Только вот к кому обратиться? Я побаиваюсь специальных заведений. Мне могут дать неизвестно чьего ребенка… Ах! Знаете, Симон, я очень часто жалею, – добавила Изабелла, сняв очки и печально подняв на него глаза. – В конце концов, давайте больше на эту тему не говорить – это бесполезно, коль скоро сами вы об этом наверняка и не вспоминаете!
Симон размышлял.
– Послушайте-ка, дорогая, – сказал он. – Я думаю сейчас кое о чем. У меня, может быть, есть возможность осчастливить троих людей…
Он вспомнил о ребенке, вернее, о подложном ребенке Сильвены, о девочке, оставшейся от авантюры с «близнецами».
Сильвена обеспечивала содержание крошки, чьей законной матерью она считалась, но совсем не занималась ею.
Она считала, что в полной мере исполняет свой долг, поместив четырехлетнего ребенка в пансион доминиканского монастыря.
– Хотела бы я иметь возможность воспитываться в доминиканском монастыре! – заявляла Сильвена.
А Симон подумал, что, кроме всего прочего, известная ирония судьбы заключалась бы в том, чтобы вернуть в орбиту семейства де Ла Моннери этот плод, приписываемый Моблану и ставший причиной стольких драм.
– А вы видели этого ребенка? – спросила Изабелла.
– Да, видел однажды. Она очень мило выглядит. Я уверен – мы бы сделали доброе дело. Актрисе, как вы сами понимаете, заниматься ребенком некогда. Настоящая мать, которая, впрочем, совсем исчезла с горизонта… вышла замуж где-то в провинции, кажется… и живет, очевидно, в весьма стесненных обстоятельствах. А вот отец, если верить тому, что мне говорили, был из очень хорошей… словом, из нашего круга…
На следующий день Симон поделился своей идеей с Сильвеной.
– О! Чудесно, это было бы чудесно, – ответила она.
В течение всей недели дня не проходило, чтобы Симону не позвонила Изабелла. Она просила дополнительные сведения: хотела непременно иметь фотографию ребенка…
– И потом, вполне ли вы уверены, что с точки зрения закона нет никакого риска и что настоящие родители в один прекрасный день не потребуют ее? О, вы знаете, ведь это такая большая ответственность…
Симон уже было пожалел о своей инициативе, когда вдруг в одно прекрасное утро торжествующая Изабелла объявила ему, что решила удочерить ребенка, и попросила как можно скорее привезти девочку.
В следующее воскресенье Симон появился в квартире, которую Изабелла в силу своей нерешительности («я перееду… нет, в сущности, мне лучше остаться… да, я перееду, как только найду что-нибудь подходящее…») оставила без каких-либо изменений после смерти своего мужа Оливье Меньере.
В одной руке Симон нес небольшой красный фибровый чемодан, а другой вел девочку семи лет с большим выпуклым матовым лбом, черными блестящими и жгучими глазами, необычайно тонкими чертами лица, пышными каштановыми волосами, которые ниспадали локонами до самой талии, и с пугающе безупречными манерами.
– Это Люсьен, – представил ее Симон.
Девочка в белом платье оставалась серьезной. В ее взгляде была какая-то страдальческая и чуть вызывающая напряженность, чувствовалось, что она привыкла молчать, наблюдать и снова молчать.
– Судьбе было угодно, Симон, чтобы именно вы дали мне моего ребенка, – с волнением сказала Изабелла. – Она действительно очень хорошенькая, – понизив голос, добавила она, – немножко, по-моему, дикарка, но, должно быть, прелестна.
Когда Симон ушел, Изабелла села в кресло, притянула к себе ребенка и сказала:
– Ну вот, теперь я – твоя мама.
– Хорошо, мадам, – ответила маленькая Люсьен.
– Значит, ты будешь называть меня мамой.
– Да, мадам.
Изабелла не настаивала. Она чувствовала себя смущенно, растерянно, будто общаясь с существом другой породы. Во взгляде девочки проглядывало то же таинственное волнение, какое бывает в глазах щенков, отнятых от матери, за решеткой псарни.
Изабелла машинально посмотрела на ладони девочки, вглядываясь в линии, уже чуть намеченные на шелковистой коже, но Изабелла умела читать по рукам лишь то, что рассказал ей кое-кто из ее ухажеров, – иными словами, она не знала ничего.
– Ступай, занимайся чем хочешь, – сказала Изабелла.
Девочка медленно прошлась по квартире, внимательно все разглядывая, но ни к чему не притрагиваясь. Выражение восторга появлялось иногда на ее лице, когда она поднимала голову к одной из люстр, разглядывала безделушки из слоновой кости или переплеты книг. Чувствовалось, что ей так и хочется задавать вопросы, но она не решается.
Изабелла приказала приготовить девочке постель на диване в маленькой комнатке, примыкавшей к ее спальне.
Три дня подряд Изабелла отказывалась от всех приглашений, чтобы ужинать вместе с девочкой. Она отвела ее в парк Монсо, купила большого плюшевого мишку. Много раз на лице Люсьен появлялась улыбка, слегка размывая тонкий рисунок ноздрей, смягчая серьезное выражение глаз, прикрытых пушистыми ресницами.
И вечером, на третий день, когда Изабелла пришла укрыть Люсьен, уже лежавшую на диване, девочка закинула руки ей на шею и прошептала на ухо:
– Спокойной ночи, мамочка… Вы знаете, сестрам я говорила «матушка»: я даже не знала, что это такое…
Изабелла отвернулась, пошла к себе в спальню и выплакалась вволю. Она представляла себе, как в старости рядом с ней будет высокая веселая девушка, а потом высокая молодая женщина, которая всегда будет говорить ей «мамочка» с той нежностью, от которой у Изабеллы сжимало грудь.
Но на следующий день Изабелла должна была идти на ужин. Когда, препоручая Люсьен заботам горничной, она дала девочке какие-то указания, в глазах ребенка появился немой укор, смесь жестокости и отчаяния, которые причинили Изабелле боль.
На следующий день в гостях, за чаем, Изабелла встретила майора Жилона.
– Где вы собираетесь отдыхать, дорогая Изабелла? – спросил он. – Я, скажем, еду в Биариц. Нас туда отправляется целая компания. Поедемте с нами!
Тут Изабелла растерялась. Нет, естественно, она и не думает ничего затевать с этим молодцеватым Жилоном. Но при случае он всегда начинал так ненавязчиво и мило за ней ухаживать, что ее это забавляло и ей льстило. Да и потом, кто знает? А может быть, в Биарице она встретит мужчину, который… А если она в Биариц не поедет, она его не встретит. И не может она ехать в Биариц с ребенком – ну не брать же, право, гувернантку, уж на это у нее совершенно нет средств, а если не брать, она будет связана. А если она встретит мужчину, который не любит детей?
Страх потерять ненужную, призрачную свободу, свободу, которая за целых десять лет ничего ей не дала, породил в ней некоторую панику. Эта девочка, которую она собирается удочерить, олицетворяет конец всем надеждам, отказ от всех ее прежних привычек, переход в разряд старух.
Тысячи раз в последующие дни Изабелла надевала, снимала и снова надевала свои черепаховые очки и путалась в противоречивых мыслях.
Наконец, когда наступило воскресенье, она позвонила Симону.
– О нет, решительно нет! – заявила она. – Я не стану ее удочерять! Не могу!
Симон, с трудом сдерживая ярость, приехал забирать красный чемодан и девочку в белом платье с пушистыми, словно кустик петрушки, волосами.
– До свидания, мамочка, – сказала Люсьен.
– Нет, мой милый, нужно забыть: не нужно больше звать меня так, – проговорила Изабелла, торопливо подталкивая ее к двери.
Лицо девочки сузилось, сжалось, под круглыми темными зрачками словно выступила влага.
Она дала руку человеку в сером, который олицетворял для нее судьбу. В другой руке она уносила плюшевого мишку.
На лестнице Симон почувствовал большее волнение и большую вину, чем после крушения Руссо, Шудлера и даже смерти собственной матери.
Выйдя на улицу, Люсьен бросила плюшевого мишку в ручей.
– Это для бедного мальчика, – сказала она.
Она не плакала.
Симон отвез ее обратно к Сильвене, а та – в доминиканский монастырь.
И отношения между Сильвеной и Симоном продолжались как ни в чем не бывало.
Бо́льшую часть состояния Жаклин и все, что должно было отойти потом ее детям, поглотил крах Шудлера.
Жаклин боялась, как бы это полуразорение не повлекло за собой тяжелых последствий в ее семейной жизни. Но ничего не произошло. Габриэль, как раз наоборот, стал держаться еще теплее, еще внимательнее, еще раскованнее, и во всем, что касалось их отношений, месяцы, последовавшие за катастрофой, были, несомненно, самыми счастливыми в их совместной жизни.
Вероятно, Габриэль никогда не любил бы по-настоящему Жаклин, если бы она с безотчетным постоянством не культивировала в нем ревность к покойному. Иные невольные или полуневольные кокетки умеют разбудить страстные чувства в мужчине, отдавая ему лишь свое тело, а взгляд или улыбку всегда посылая кому-то другому.
Но когда любовь зиждется на острие ножа, именуемого ревностью, удовлетворяют ее только победы гордыни. Таким образом, все, что могло умалить имя Шудлера, очернить окружавший его ореол, подточить пьедестал (во всяком случае, так думал Габриэль), на котором возвышалась память о Франсуа, принималось бывшим офицером как божья милость. На фоне крушения империи на авеню Мессины Габриэль вырастал в собственных глазах. Теперь Жаклин уже не сможет сказать ему – чего, впрочем, она и так никогда, ни при каких обстоятельствах, даже в минуты гнева себе не позволяла – слова, которые он всегда боялся услышать: «Но ведь вы не отказываетесь жить на то, что мне оставил Франсуа».
И Габриэль оказался в том парадоксальном положении, когда, женившись на Жаклин из-за денег, он был счастлив, что она частично разорилась.
Все же у него хватало такта придать своему удовлетворению видимость спокойного понимания. «Разве мы объединились не для того, чтобы делить и радости, и горести?» – казалось, говорил он Жаклин. И такое великодушие не могло оставить ее равнодушной.
Кроме того, впервые после отставки Габриэль был чем-то занят. Утонув в бумагах, Жаклин в конце концов свалила все на плечи мужа.
– Ах! – время от времени восклицала она. – Если бы бедняжка Полан была с нами – ведь она все знала и превосходно помнила, – она бы так нам помогла.
Но старая секретарша де Ла Моннери и Шудлеров, которая всегда появлялась в минуты горя, умела составить извещение о кончине и обрядить покойного, умерла четырьмя годами раньше от цирроза печени.
Работа Габриэля заключалась главным образом в визитах к адвокату, к агенту по обмену, к новому банкиру, занимавшемуся процентами, и в постижении – с помощью финансистов – вещей, в которых он не понимал решительно ничего, но хотел обо всем этом рассказать Жаклин, с завидной уверенностью преподнося решения, принимаемые якобы главой дома.
Он потерял на этом много времени, зато приобрел немалое влияние. Жена то и дело благодарила его взглядом, молчанием, пожатием руки, поцелуем.
Все это время семейство почти безвыездно жило в Париже, на улице Любек.
И в некоторой степени вследствие этих событий Габриэль приобрел уважение в глазах госпожи де Ла Моннери.
– А знаете, бедный вы мой Габриэль, – однажды призналась она ему, – ведь я была против первого брака Жаклин. С банкирскими семьями связываться опасно – рано или поздно все кончается крахом.
И Габриэль, который никогда не думал, что когда-либо сможет получить одобрение в глазах старой дамы, стал тотчас придавать этому большое значение.
Семейству Де Воосов было еще очень далеко до стесненных обстоятельств, и их образ жизни нисколько не нарушался, – они ни в чем не изменили его.
Наследство дяди генерала и дяди дипломата, состоявшее из именных ценностей, могло быть полностью возвращено. Конечно, это была капля в море по сравнению с потерями, учитывая к тому же чудовищное общее падение курса акций. Но с другой стороны, в одном из лондонских банков хранился сейф с золотом, оставшийся нетронутым: наверняка забывчивость барона Ноэля.
Ко всему прочему, для успокоения Жаклин имела в своем распоряжении гигантскую земельную собственность – Моглев, которую она должна была получить в кратчайший срок и на доход от которой она уже безбедно жила шесть месяцев в году. Напрасно управляющий и нотариус время от времени говорили ей: «Обратите внимание, госпожа графиня, на ферме в Пюйроме вот-вот придется делать ремонт… На земли Вашри есть уже одна закладная», – тысячи гектаров леса и сельскохозяйственных угодий не так просто пустить по ветру.
Габриэль, утомившись за несколько месяцев от проникновения в смысл занятий делового человека, с триумфом принес однажды Жаклин точный перечень ценных бумаг, оставшихся в ее портфеле, и оценку всего, чем она владела; глядя на эту нумерацию, колонки цифр, аккуратные, прочерченные красными чернилами линии, Габриэль испытывал то же благостное чувство порядка, правильности и совершенства, какое он испытывал когда-то, производя смотр своему эскадрону.
И в точности так же, как подобное благостное состояние духа толкало его вечером после строевого смотра к карточному столу, где он проигрывал в покер все жалованье, или вдохновляло на пьянку до рассвета, оно породило в Габриэле желание купить себе новую машину, в чем Жаклин не могла ему отказать.
Он выбрал машину из числа самых скоростных и самых роскошных – с особой формой кузова и чудной красной кожаной обивкой; правда, мотор у нее был на три лошадиные силы слабее предыдущей, но зато, как объяснял Габриэль, это дает возможность экономить на бензине.
С тех пор он только и занимался новой игрушкой, снова стал каждую минуту без всякой надобности поглядывать на часы; он жил в ожидании конца июня – даты самой важной и для Жаклин, и для него – годовщины смерти Франсуа.
Габриэль ждал приближения этого дня, как больной лихорадкой, считающий, что он излечился, думает о приближении периода, когда обычно у него начинаются приступы, – с той же смесью опасения и надежды.
На неделе, предшествовавшей годовщине, Габриэль заметил, что у Жаклин так и не появилось отсутствующего и сосредоточенного выражения, какое бывало у нее в прошлые годы. Что это – естественное расслабление, когда забвение и время сыграли свою роль, или Жаклин делала над собой усилие? В любом случае Габриэль расценил эту перемену как личную победу. Он не отдавал себе отчета в том, что самим фактом включения тягостной даты в ряд событий своей жизни он признал собственное поражение. Ни с той ни с другой стороны не было произнесено ни слова, напоминавшего о приближении этого дня.
Накануне Габриэль и Жаклин попрощались чуть поспешней обычного, не посмотрев друг на друга, ибо каждый знал, о чем думает другой.
Разумеется, Габриэль и не собирался идти в спальню Жаклин; впрочем, их физическая близость, оставаясь столь же гармоничной, стала менее регулярной, и такое проявление деликатности со стороны Габриэля не могло показаться нарушением привычки.
На следующий день Габриэль должен был понять, одержал ли он в самом деле победу над мертвым.
Утром, спустившись к завтраку, – ибо после «разорения» на улице Любек стали придерживаться английской манеры завтракать в столовой, что отнюдь не оправдывалось соображениями экономии, даже если говорить о работе слуг, ибо ритуал усложнялся необходимостью подать в спальни early tea[29], но это предполагало соблюдение нравственных норм, – Габриэль с удивлением не увидел Жаклин.
– Она пошла на заупокойную мессу – сегодня годовщина Франсуа, – объяснила госпожа де Ла Моннери.
– Ах да! Конечно же. Естественно! – отозвался Габриэль.
– Что? Что вы говорите?
– Я говорю – естественно, – громче повторил Габриэль, искренне так полагая.
– Да… Но, вы знаете, – продолжала госпожа де Ла Моннери, – это ведь делается потому, что так принято. Так и я раз в году заказываю мессу в память о моем муже. За ту радость, что он мне подарил, я считаю достаточным вспоминать о нем раз в году. Что? Кто там?.. Войдите!
Жаклин опоздала совсем немного. Лицо ее было вполне спокойно – ей удалось очень быстро принять надлежащий вид.
– Дождь льет как из ведра! – сообщила она. – Я вся вымокла. В самом деле, для июня… Мне еще надо поехать на кладбище, но в такую погоду!..
Она произнесла это таким тоном, будто речь шла лишь о какой-то скучной обязанности.
– Я отвезу вас, – без малейшей заминки предложил совершенно естественным тоном Габриэль.
– Да нет, ну что вы, милый, я не стану вас об этом просить!
– Да, правда, уверяю вас! Так же гораздо проще!
В этом напыщенном обмене любезностями Жаклин легко дала себя уговорить, ибо тоже хотела убедиться в том, что Габриэль окончательно излечился от своей прежней болезни.
Таким образом, сразу после полудня Габриэль привез ее к воротам Пер-Лашез.
– Я на минутку, – сказала она.
Габриэль машинально взглянул на часы. Жаклин купила охапку цветов и исчезла.
Когда через полчаса она вернулась – аллеи на большом кладбище очень длинные, к тому же Жаклин не сразу нашла садовника, которому ежегодно давала чаевые, к тому же белая ваза, куда она обычно ставила цветы, разбилась, – Габриэля в машине не было.
«Он решил не терять времени и сделать покупки», – подумала она. Внимание ее было еще всецело поглощено усилием, какое ей пришлось над собой сделать, чтобы, пока она стояла на коленях у могилы, сдержать слезы, которые мог бы заметить Габриэль.
Она села и стала ждать.
Пальцы ее, стараясь найти занятие, поглаживали оленье копыто, висевшее на ветровом стекле. Но это было не копыто слепого оленя: тот трофей Габриэль велел приделать к дубовой дощечке, куда по традиции прикреплялась медная пластина с датой и обстоятельствами охоты. Копыто, висевшее в машине, принадлежало оленю, взятому в один из самых счастливых дней их помолвки, когда Жаклин и Габриэль охотились бок о бок, почти наедине. Надрезанная кожа над ним была теперь жесткой и загибалась, как бычья жила.
– О! Хорошо, что господин граф держит это под рукой, – говорил Лавердюр. – Когда ездишь по ночам, никогда не знаешь… А лучшей дубинки и не найти. Я вот тоже всегда вожу с собой в грузовичке.
Однако Габриэль держал этот талисман в своих сменявших одна другую машинах лишь из уважения к воспоминаниям. «Пока он играет в эти игрушки, он меня любит», – думала Жаклин.
Но по мере того как текли минуты, в ней скапливалась смутная тревога, смешанная с раздражением. «В самом деле, он издевается надо мной. Где он может быть?»
Прошло полчаса, потом еще четверть, и наконец появился Габриэль: лицо его налилось кровью, на скулах ходили желваки, кулаки сжались. Он резко рванул дверцу.
– А! Вы тут! – произнес он, не глядя на Жаклин.
Сиденье было выдвинуто вперед. Габриэль отпихнул его, стукнув ногой по великолепной красной коже. От него сильно пахло анисовой водкой.
У Жаклин будто похолодели лицо и руки, и она закрыла глаза.
«О-о! Ну вот! Все пропало. Теперь – все сначала, – подумала она. – Ох, это моя вина. Как я, дура, могла поверить… Что ж, тем хуже для меня…»
Габриэль трижды пытался завести мотор, прежде чем двинулся с места. А потом пустился по скользким, забитым машинами улицам, не сбавляя скорости.
– Габриэль, прошу тебя, я думала, все уже прошло, – сказала Жаклин самым ласковым, самым нежным, самым умоляющим тоном, на какой была способна, положив руку на локоть мужа.
– Да, и я тоже, – крикнул он, – я тоже думал, что все кончилось, что это кончилось!
Высвобождаясь от руки Жаклин, он сделал резкий зигзаг и продолжал дальше неуклюжий, леденящий душу путь.
– И что же, у Шудлеров большой склеп? – спросил он чуть позже деланно безразличным тоном, за которым чувствовалась скопившаяся ненависть; а в это время машина, скользя по мокрому асфальту, задела крылом капот автобуса.
– Да, довольно большой, – ответила Жаклин, заставляя себя хранить спокойствие.
– Значит, вы могли бы с успехом перенести туда нашу кровать!
Позади них послышался треск столкнувшихся машин, но они уже унеслись далеко вперед. Тогда Жаклин, склонив голову на руки, тихонько дала волю слезам, которые сдержала на могиле Франсуа.
С этого дня возобновилось супружество втроем, где лишним оказывался то мертвый, то живой.
Летняя жара воцарилась в Париже. Большой приз[30] был уже разыгран, и многие уехали из города. Молодежь побогаче плескалась в бассейне Делиньи, неподалеку от площади Согласия, где воду очищали.
Однажды утром хозяйка пансиона «Эглантины» срочно вызвала по телефону профессора Лартуа в Виль д’Авре. К его приезду одна нога у Ноэля уже похолодела, стопа, багрово-лилового цвета, раздулась, ногти стали прозрачными и приобрели опасный беловато-сероватый оттенок, на суставе темнел кружок, точно гангрена отметила карандашом определенное место на теле, отданном уже во власть смерти.
Лартуа знал наизусть развитие этой болезни, когда в одном теле мертвая плоть борется с живым организмом, пожирая у него сначала ноготь, потом кусочек ткани, потом кость, а потом и всю фалангу.
Прячась за специальными терминами, которые медики употребляют не только для того, чтобы, как многие думают, в тщеславии своем возвыситься в глазах невежественных смертных, но и, гораздо чаще, для того, чтобы заслонить от больного картину болезни, Лартуа спокойно объявил:
– Ну вот, голубчик, у вас облитерирующий артериит с начальным омертвением.
Новая болезнь, проявившаяся в теле барона, имела такую же, что и прежняя, природу, такую же атеросклеротическую основу. В голове это были задубевшие, сжавшиеся сосуды, которые плохо питали серое вещество головного мозга; в ноге – закупорка бедренной артерии, которая плохо пропускала кровь.
– Вы, наверное, страдаете чудовищно? – спросил Лартуа.
– Особенно ночью – как проклятый, – ответил Шудлер, рука его билась по простыне.
«Несчастный, могу себе представить! – подумал Лартуа. – У него уже одна нога в аду».
– Это серьезно? – спросил Шудлер.
– О да, вполне! Но мы вас вытащим, – ответил Лартуа. – Только, может быть, придется пойти на кое-какие жертвы. Да какого дьявола! Вы же видели, как бывает у других, а вы – настоящий мужчина.
Одновременно в голове у него мелькнуло: «Насколько для него было бы лучше, если бы сегодня ночью он потерял сознание и умер…»
Смертная тоска охватила Ноэля, просверлила его до мозга костей, ибо единственный и последний друг сказал ему: «Вы – настоящий мужчина» – в точности как говорят, утешая детей.
В тот же вечер Лартуа положил его в хирургическое отделение к профессору Шельеру.
Шельер был кругленький, коренастый, лысый, с несколькими прядями рыжеватых волос на затылке, изрезанным морщинами лбом, живыми голубыми глазами, всегда искрящимися под тенью бровей.
Волевые, тяжеловатые черты его лица у кого-нибудь другого могли бы выражать амбицию, властность, преувеличенное самомнение, жестокость; у него же они всегда выражали понимание и ласковую человечность.
Лицо профессора Шельера не отображало особенностей натуры: вернее, маска его отображала силу, а мы не привыкли видеть силу, творящую добро.
Когда он хватал больного за запястья – так, будто эти две точки, эти два полюса были нужны ему для того, чтобы пропустить свой собственный ток через тело ближнего, – даже у самых отчаявшихся появлялось желание жить.
Он осмотрел Шудлера. Затем в течение добрых четверти часа врачи вместе обдумывали: «Верхняя ампутация или нижняя?»
– Я ведь, знаешь, не люблю резать… или уж как можно меньше, – сказал Шельер. – Если можно спасти ему пятку, если у него есть еще шанс ходить, хотя бы немного…
– Но ты же видишь его общее состояние, – отозвался Лартуа.
– Да, конечно, конечно…
– А если потом придется отрезать выше?
– Значит, придется. В его состоянии верхняя ампутация в любом случае грозит летальным исходом. Значит, лучше с ней потянуть. Никогда ведь не знаешь!..
Луи Шельер был одного возраста и выпуска с Лартуа: их знания и репутация – у каждого в своей области – были равны.
Обращение на «ты» между двумя стареющими знаменитостями, достигшими в одной и той же области апогея славы, всегда имеет – даже если они, следуя в своей карьере слишком близкими путями, и не очень друг друга любят – что-то глубоко трогательное для тех, кто восхищается ими и учится у них.
Так, когда Лартуа и Шельер, два «главных патрона», шагали бок о бок по белым коридорам гигантского комбината по продлению человеческих жизней, все невольно замирали: санитарки, ординаторы, ассистенты.
– Чем ты сейчас занимаешься? – спросил Лартуа.
– Изучаю, – ответил хирург. – Мне кажется, я нашел, как раз для этого вида болезни, возможность спастись от страданий, избежать ампутации. Мне нужно, может быть, еще лет пять, чтобы наладить методику… может быть, и больше, но я этого добьюсь. А ты? – добавил он.
– О, я дошел до третьего тома моей «Всемирной истории медицины», и, боюсь, придется продолжать. Ты понимаешь, – продолжал Лартуа своим ироничным свистящим голосом, – когда речь идет о том, чтобы составить хронологический отчет о заблуждениях медицины со времен Библии, ибо Библия – это еще и трактат по терапии – до тебя самого, требуется некоторое время!
– А когда ты едешь в отпуск? – задал еще вопрос Шельер.
– Думал, на той неделе. Все уже было блестяще устроено. Неизлечимых больных я оставил спокойно помирать. Тем, у кого никогда ничего и не было, объявил наконец, что они выздоровели. А теперь вот не знаю. Все зависит от него, – сказал Лартуа, кивая на дверь, за которой находился Ноэль Шудлер.
И тут Шельер понял, что сердце у Лартуа не настолько бесчувственное и циничное, как ему приписывали: он тоже скрывал под маской свое подлинное лицо.
Уцепившись за прутья в изголовье больничной кровати, задрав рыбацкую бородку к потолку, Ноэль Шудлер боролся с болью.
– Да когда же, в самом деле, они придут? Пусть поторопятся, черт бы их подрал! – стонал он сквозь зубы.
Жан-Ноэль, стоя в ногах больного, смотрел на плечи исполина, видневшиеся над своего рода тоннелем, образованным металлическим обручем, прикрытым простынями. На шее, под седыми волосками, с хрипом вздымались и опускались набрякшие жилы. Тело усохло от потери крови.
Приступ, казалось, прошел; пальцы отпустили решетку, борода поникла, и мальчик увидел, как щель между жирными веками повернулась в его сторону.
– Знаешь, Жан-Ноэль, мой мальчик, – сказал Ноэль Шудлер, – мне, видимо, придется еще разок побывать на столе. – И, сделав отвратительную гримасу, он высунул язык.
Шестнадцать дней назад ему ампутировали полстопы. Однако нога не заживала, циркуляция крови не восстанавливалась, и боли возобновились, нарастая с каждым днем.
Ноэль Шудлер попросил вызвать внука. Ему казалось, что он должен о многом сказать мальчику. Жан-Ноэль приехал в четверг, как раз в это утро. И Ноэль никак не мог «собрать» в слова расплывчатый туман мыслей и чувств, заполнявший его голову в течение последних дней.
– Надо присматривать за сестрой, – наконец проговорил он. – И делать это должен ты. Она очень милая девочка, но, по-моему, ведет она себя как не вполне подобает девушке нашего круга. Так что… – Высказанная мысль непонятно почему настолько взволновала его, что он умолк и лицо исказилось, будто он сейчас заплачет. Впрочем, все произносимые им фразы, касавшиеся прошлого или будущего, ушедших близких или тех, кто останется после него, способны были его растрогать.
Жан-Ноэль отступил от кровати, потому что прутья решетки под руками старика ходили ходуном. Спазмы, сотрясавшие его тело, приводили в движение всю постель.
Ноэль Шудлер, чуть приподняв простыню, принялся здоровой рукой поглаживать свое голое колено, бившееся точно под электрическим током.
– Бедная ты моя нога, бедная ты моя нога, – шептал он, – на сей раз придется мне с тобой проститься, а? Последние минутки мы с тобой вместе!
Затем Ноэль Шудлер, выдвинув ящик тумбочки, взял оттуда ассигнацию в сто франков – последнюю – и громадные золотые запонки с выгравированной его монограммой.
– Держи, – сказал он внуку, – это тебе. Раз у тебя мои инициалы. А деньги – оставишь на каникулы…
– Спасибо, дедушка, – промолвил Жан-Ноэль.
– Да нет, не благодари. Я должен был бы дать тебе настолько больше… Ах! Если бы я умер десять лет назад… Зачем все это нужно, зачем…
В эту минуту начался новый приступ. Закинув руки за голову, старик снова вцепился в решетку и застонал:
– Позвони, Жан-Ноэль, позвони. Позови сестру… Пусть мне сделают укол. – Пот струился по его впалым вискам.
– Убийцы! – закричал Шудлер, поскольку сестра все не приходила. – Я так с ними и подохну! Убийцы. Я знаю, они производят на мне опыты. Хотят посмотреть, сколько можно терпеть боль… Жан-Ноэль, немедленно свяжись по телефону с префектом полиции, скажи, что ты – мой внук и что меня тут убивают, и пусть они заводят на эту больницу дело, а не то я в своей газете сотру их в порошок…
Появилась сестра со шприцем морфия в руках.
– Ну-ну… ну-ну, – сказала она.
– Убийцы, – успел еще проворчать старик, протягивая иссохшую руку.
Сестра вышла, а Ноэль Шудлер замер в настороженном молчании, сжавшись, затаив дыхание, будто считая секунды, оставшиеся до благотворного воздействия наркотика.
Жан-Ноэль, измученный тяжелой духотой, насыщенной запахами болезни и лекарств, поискал глазами, где бы сесть. Единственный стул был занят уткой. Тогда мальчик снова оперся на кровать.
С самого раннего детства Жан-Ноэль всегда испытывал некоторый ужас перед дедом – вспыльчивым, всемогущим исполином. Исчезновение Франсуа Шудлера (об истинных причинах которого Жан-Ноэль ничего не знал) еще больше увеличило в глазах ребенка гнетущий авторитет старого властелина.
И вот теперь вместо объемного, как латы, торса – впалая грудь с выпирающими ребрами, покрытая редкими седыми волосками; внушавшие страх руки, вздымавшие когда-то Жан-Ноэля на два метра над землей, превратились в длинные дрожащие конечности скелета, нога колосса, за которую Жан-Ноэль, когда ему было четыре года, цеплялся, чтобы проехать на ней через анфиладу гостиных на авеню Мессины, теперь исчезает по кускам…
– Ничем мне эта дрянь не помогла, – простонал старик. – Верно, они налили туда воду… Они впрыснули мне воду своим проклятым шприцем. О-о-ой! Бедный мой маленький Жан-Ноэль…
И старик, склонив голову, закусил угол простыни, чтобы внук не видел, как он плачет…
«Шудлеры никогда не плачут…» Вот и эта истина умерла в цепком сознании Жан-Ноэля, как несколькими месяцами раньше, под натиском броских заголовков в газетах и издевательств товарищей по классу, в один миг умерла вера в беспредельное богатство деда и как за каких-нибудь полчаса умерла вера в силу тех, кто родился прежде нас.
– Знаешь, мне придется еще раз побывать на столе, – снова заговорил больной. – Тебе надевают на лицо маску… и потом проваливаешься, проваливаешься, как камень, в темноту…
Боязнь бесконечного падения после анестезии на эфире заставила его машинально, привычным жестом поднести руку к сердцу – к сердцу, единственным стремлением которого во все времена была неуемная жажда жизни и которое теперь вело одинокую борьбу за существование, оставшись в растерзанном, бессильном теле.
Внезапно Жан-Ноэль понял, что деду страшно и что, быть может, ему было страшно всегда. Жан-Ноэль хорошо знал этот смутный тайный, коварный страх, но он думал, что испытывает его, «потому что еще маленький».
И впервые мальчик почувствовал к деду нежность, впервые понял, что у них одна кровь; он подошел к нему и тихонько, долгими движениями до самого затылка, погладил его по голове.
– Да-да-да, вот так хорошо… – прошептал Ноэль Шудлер. – Мама тоже меня так гладила, чтобы я заснул… Это, верно, твой отец, Франсуа, должен был бы теперь быть здесь?
Без сомнения, Жан-Ноэль уже не боялся деда. Однако в нем зародилось другое, гораздо более глубокое чувство ужаса перед тем, что он в свои четырнадцать лет вдруг сделался сильнее идолов, почитаемых им с раннего детства. Ибо надежда достигнуть безопасности в день, когда он сам станет таким, как эти идолы, превратилась в утопию: не осталось отныне безопасности на земле.
– Давай иди, малыш, – тихо проговорил старик. – Как хорошо ты сделал, что пришел.
Он начал ощущать благотворное действие морфия, и единственным его желанием было погрузиться в дрему.
Жан-Ноэль ушел, унося сложенную купюру, два кусочка золота, позвякивавших в его кармане, и ощущение бренности плоти человеческой – все его достояние.
Каталка вернулась из операционной около одиннадцати. Бескровное лицо барона Шудлера в обрамлении бороды, казалось, лежало на блюде, покрытом мехом. Дряблые веки были закрыты, щеки ввалились: вставные челюсти были вынуты. Сквозь открытый рот виднелись голые десны, язык запал в глотку. Лицо было красное. Два санитара, схватившись за простыню, стащили тяжелое тело с каталки на кровать.
Сестра тотчас наложила на грудь больного горчичник; затем, закрепив его руку на деревянной дощечке, она ввела иглу, куда капля за каплей, в течение многих часов, потечет раствор из большого стеклянного сосуда, закрепленного на металлической стойке.
– Так правильно, господин профессор?
– Да, да… Теперь надо подождать, когда он проснется, – ответил Лартуа, вошедший в комнату вслед за каталкой.
Он был еще в белой блузе и брюках. Сев на стул у кровати, он нащупал пульс оперированного. Подождать… Времени у него хватало – он устроил все так, чтобы у него хватило времени.
Через полчаса Ноэль Шудлер пошевелился, задал несколько невнятных вопросов, несколько раз срыгнул и вновь погрузился в глубокий сон.
Профессор Шельер поднялся примерно через час, закончив шесть операций, запланированных у него на утро. Он был одновременно и усталый, и напряженный, мысленно разрываясь между шестью телами, стонущими за затворенными дверями шести палат: шесть тел, в тайну которых вторглась его рука, пытаясь изменить движение судьбы. К добру… к беде? Он никогда этого не знал, никогда не был уверен…
И как раз в эту минуту Шудлер окончательно проснулся после наркоза. Взгляд его наткнулся сначала на металлическую стойку с раствором, проследил за трубкой, заканчивавшейся в его руке, заметил Шельера, стоявшего справа от кровати, и Лартуа, сидевшего слева, вернулся опять к Шельеру.
– Ну что, барон, голубчик? – спросил тот.
– Смотрите-ка, а вы все еще в вашей очаровательной шапочке? – проговорил Шудлер.
Потом он указал глазами на Лартуа.
– Он единственный… единственный мой друг, – прошептал он.
– А как же я? – воскликнул Шельер.
– Да, да, и вы, конечно.
Шудлер спросил, сколько времени он спал и та же ли это была операционная, что в первый раз. Мысль его явно вертелась вокруг основного вопроса, который он не решался задать.
Свободной рукой он скользнул под металлический обруч, ощупал бок, складку паха, начало ляжки и очень быстро наткнулся на бинты.
– Вы все-таки оставили мне кусочек, – сказал он. – А то, что под ним?
– А то, что под ним… что ж, этого больше нет, – ответил Шельер. – Пришлось… Знаете, я не люблю этого, я себя ненавижу, когда приходится ампутировать. Я предпочитаю оперировать во спасение. Но когда невозможно…
– Да, конечно, пришлось, – повторил Шудлер, чуть глубже вдавливая голову в подушку. – Но, право же, не стоило… Надо ведь когда-нибудь от чего-то умереть.
И Лартуа понял, что этот беспокойный человек наконец покорился судьбе; он обменялся взглядом с Шельером.
В самом деле, зачем оба они стояли тут, склонившись над изуродованным, разрушенным телом, ловя затухающую мысль? Ведь у Шудлера не было больше ничего: ни дома, ни друзей, ни – практически – семьи, никаких надежд, никаких радостей, и даже тени радости ему не приходилось ждать. Так почему же они с Шельером боролись вот уже шестнадцать дней, призвав на помощь шприцы, растворы, скальпели, зажимы?
«Быть может, я просто стараюсь сохранить его для себя, ради того удовольствия, какое я получаю от его присутствия или беседы с ним?.. Ради наших воспоминаний?..»
Да нет, дело не в этом… Во имя какой солидарности решил он заставить стоять этот полутруп в глубине аллеи, не ведущей никуда? И потребность в этом не вызывала сомнения ни у хирурга, ни у него. Оба они принадлежали к людям, чья жизнь была подчинена единому волевому устремлению – спасению человеческого тела. В этом заключалась их функция и предназначение, и слава, которой они достигли, не только служила им вознаграждением, она должна была подвигнуть других пойти по их пути, прийти им на смену.
– Устал я… Устал, – прошептал Шудлер, не открывая глаз. – Внук приходил меня навестить сегодня утром… нет, правда, я устал.
Голос его звучал глухо, будто издалека. От спазмы язык высунулся наружу и снова запал вглубь, к гортани.
Лартуа почувствовал некоторое облегчение: он понимал, что это трусость, но когда умирающий соглашался со своей участью или даже сам желал ее, ему уже не казалось, что смерть на сей раз одержала над ним победу.
Однако не оставалось никаких сомнений, что у Шудлера наступает агония.
Кожа на скулах у него натянулась, нос заострился; глаза вновь закрылись, дыхание стало сухим, шумным, затрудненным из-за запавшего языка. Ладони разжались, и вытянутые вдоль тела руки забились по простыне, как рыбьи плавники.
Профессор Шельер тронул за плечо профессора Лартуа.
– Мы ведь знали, – прошептал он. – Пойдем. Пора все-таки идти обедать.
Они спустились, переоделись, вышли из больницы и направились в маленький ресторанчик, как раз напротив, куда Шельер обыкновенно приходил в те дни, когда поздно заканчивал свой рабочий день.
– Итак, господин профессор, как всегда, хороший кусок мяса с перцем? – спросил хозяин, смахивая крошки со стола перед ними.
Тишина замка Моглев
Месяцы, последовавшие за случаем на кладбище, стали для Жаклин и Габриэля медленным сползанием в ад, которого, как чувствовали они оба, им было не избежать.
Ревность Габриэля вспыхнула с новой силой, она была неотступной, цеплялась за любую мелочь, чего никогда не случалось прежде.
Отдельные слова, названия городов или клички лошадей, встречи с людьми, которых Жаклин знала в пору первого замужества, или даже простое упоминание об этих людях в беседе – все повергало Габриэля в мрачное молчание или вызывало внезапный и нелепый взрыв ярости.
Жаклин уже не смела произнести ни одной фразы, прежде не проверив, нет ли в ней опасного слова. Тогда Габриэль придирался к ее молчанию. «Она думает, как об этом сказать», – говорил он себе. И Жаклин произносила первое, что приходило в голову, что звучало фальшиво, звучало плохо, – лишь бы прекратить эту муку, уйти от полных холодной ненависти глаз.
Много раз они пытались пожить несколько дней врозь, чтобы немного прийти в себя, – она в Моглеве, он в Париже, или наоборот. Но она заметила, что, подобно раненому, срывающему повязку, чтобы рана закровоточила снова, Габриэль, пользуясь ее отсутствием, начинал рыться в ящиках, проникать в тайны старых писем, вытаскивать на свет божий воспоминания, которые принадлежали лишь ей, вызывая боль, которая принадлежала лишь ему.
Смерть Ноэля Шудлера, случившаяся как раз в эту пору, явилась поводом для очередной драмы, которая длилась целую неделю. Габриэль разрешил жене присутствовать на заупокойной мессе, но запретил ей ехать на кладбище.
«Когда я думаю, – говорил он себе, – как я всегда с ней обращался… как я старался спасти то, что у нее осталось, и вырвать из лап этих сволочей… Надо было мне плюнуть, и пусть бы все катилось к чертям…»
Жаклин повиновалась: выходя из церкви, она сделала вид, будто плохо себя почувствовала, и отпустила детей ехать на Пер-Лашез без нее. Она сама не понимала природы своей покорности, но, то бунтуя, то заставляя себя успокоиться, она мало-помалу, под влиянием совместной жизни, вступала в игру, которую вел Габриэль. Ему удалось внушить ей чувство невыносимой вины.
«Ну что же я сделала, – стенала она, оставаясь одна, сжимая виски руками, – что я сделала, чтобы он так страдал? Это же невероятно, он просто сумасшедший…»
Тот же вопрос без конца задавал себе и Габриэль. Казалось, в нем не было ничего, что указывало бы на утрату психического равновесия. Ума он был среднего, никакая мистическая или метафизическая тревога не угнетала его, никакая болезнь не гнездилась в его теле.
Так почему же эта навязчивая идея снова и снова овладевала им по малейшему поводу или даже без всякого основания?
У Габриэля тогда возникало впечатление, будто его разум разрывается по шву, с треском, как полотно, как простыня.
И ярость начинала вопить в нем, заглушая мысль.
Вот в такие минуты Габриэль отправлялся пить. Спиртное было единственным, что помогало ему избавиться от этого состояния или, вернее, заглушало сознание того, что с ним происходит.
Сначала он напивался только в такие минуты, но скоро началась интоксикация, и он стал пить уже из потребности опохмелиться.
Жаклин пришлось обращаться за помощью к слугам, чтобы прятать спиртное, объявлять, что забыли купить вино или куда-то задевали ключ от погреба. Это была опасная ложь, которая никак не усмиряла заинтересованную сторону.
Габриэль тогда говорил, что едет купить сигарет или какой-нибудь еженедельник, под этим предлогом заглатывал три рюмки перно и возвращался – иной раз озлобленный, а иной раз измученный.
В Моглеве, во время охоты, Габриэлю уже не приходилось требовать, чтобы жена следовала за ним. Она и так скакала рядом, не отставая. Тем не менее он находил способ потеряться – сделать вид, что потерялся, – и отправиться в обществе барона ван Хеерена в какой-нибудь кабак. Голландец превратился для Жаклин в исчадие ада.
Однажды вечером, когда охота кончилась ничем и собаки устали, а они находились в двадцати пяти километрах от Моглева и уже спустилась ночь, Габриэль утащил с собой даже первого доезжачего.
– Поехали, Лавердюр, – сказал он. – Жолибуа приведет назад свору. Поехали, пропустим по стаканчику – это приказ!
– Ба! Господин граф мог бы дать мне и более неприятное приказание.
Лавердюр вернулся домой в весьма разобранном виде.
– Ну и ну! Вот так да! Вот еще что на мою голову! – воскликнула госпожа Лавердюр, по обыкновению часто моргая. – Ты что же, собираешься приняться за такое, да чтобы вошло в привычку? Этого еще не хватало!
– Видишь ли, Леонтина, – назидательным тоном отвечал ей Лавердюр, – я, по-моему, понял, что творится с этим человеком: страдает он из-за памяти барона Франсуа. Вот!
– Да? Ну так это не причина вести себя так, как слугам не подобает, – возразила госпожа Лавердюр. – Стоит на тебя посмотреть… Вот все болтать-то будут! Ну не стыдоба?!
– Да… Да… только, верно, все не так просто, – ответил доезжачий, который боготворил хозяев и любил Габриэля.
Вино старило Габриэля. Ему едва исполнилось сорок, а волосы на висках уже поседели, лицо оплыло, под глазами появились мешки. Красавец Де Воос губил себя. Он все больше и больше курил, и пальцы у него пожелтели.
Страдание отметило и Жаклин. Она стала худеть. Кожа утратила трогательную прозрачность, которая дотоле придавала ей обаяние неземного существа. Это была маленькая сухая женщина, когда-то прелестная, а теперь лицо ее начало покрываться морщинами.
Габриэль уже реже желал ее. Собственно, желание возникало у него, лишь когда он был пьян. Сначала, помня опыт того первого дня, когда она уступила, Жаклин решила в таких случаях ему отказывать.
– А-а! – воскликнул в тот вечер Де Воос. – Мадам теперь живет с мертвым рогоносцем… А я – пошел вон!
И она подчинилась ему. Сила, которой она не в состоянии была противостоять, соединяла ее, сливала ее с телом Габриэля. Не будь этой силы, властвовавшей над ней, разве смирилась бы она с такими страданиями, да и вообще были бы у нее основания так страдать?
Она лишь старалась в эти минуты не подпускать большие руки Габриэля слишком близко к своей шее. «А вообще-то, в конце концов, возможно, так было бы и лучше…» – временами говорила она себе.
Когда Габриэль не был пьян или не находился во власти своей навязчивой идеи, он разгадывал кроссворды. От безделья он пристрастился к этому занятию. Потому он так и любил еженедельники. Он без устали бродил по комнатам Моглева с «Малым Ларуссом» в руке. Под конец он выучил наизусть всех потомков Авраама и полный список царей Халдеи и Ассирии.
В этот период лучшими минутами жизни для Жаклин, единственно счастливыми минутами, были вечера, когда она шила, а Габриэль, посасывая золотой карандаш, который она подарила ему, бормотал:
– Так… «генералы спорили из-за раздела его империи»… девять букв… О, это слишком легко, легко до нелепости!
В такие дни Жаклин благодарила Бога за крохи жалкого счастья, выпавшего им, преждевременно состарившимся людям. Но бывало это редко.
– Послушайте наконец, Габриэль! – воскликнула она однажды, потеряв терпение. – Вам не кажется, что, напоминая мне без конца о Франсуа, вы сами не даете мне его забыть? Неужели вы не видите, что делаете все как раз наоборот?
Он прекрасно знал, что она права и что отныне не она, а он виноват в их страданиях. Но вместо того чтобы признать это, он подумал: «Вот что: за то, что ты так сказала, я буду теперь тебе изменять».
Его решение не было плодом вновь проснувшегося желания, а объяснялось лишь жаждой мести: Габриэль прибегнул – как часто бывает в подобных случаях – к помощи своей старой приятельницы, а именно Сильвены Дюаль.
Нежность, с какой мы вспоминаем прошлое и тех, кто принес нам одновременно добро и зло, чувство реванша, какое испытываем при возвращении того, кто нас бросил, желание узнать, хочет ли она по-прежнему близости с человеком, которого до тех пор считала единственной настоящей любовью в своей жизни, – все это побудило Сильвену сдаться без долгих уговоров.
Она не получила никакого удовольствия. Пожалев, что согласилась, она подивилась тому, что плоть может после такого горения стать настолько безразличной, и взгрустнула по разбитым иллюзиям.
Что же до Габриэля, странная трусость удержала его от того, чтобы признаться Жаклин в поступке, на который он и решился-то лишь для того, чтобы потом им хвастаться. А однажды свершив его, он вдруг понял, насколько все это оказалось тускло, ненужно и не принесло ему никакого облегчения.
И жизнь потекла дальше – охота на оленей, вспышки ярости, пьянство, кроссворды…
Накануне Рождества Жаклин и Габриэль отправились в заведение для девушек, где училась Мари-Анж, чтобы присутствовать на традиционном спектакле, который устраивали в конце года. Мари-Анж появлялась на сцене дважды – сначала она прочла стихотворение своего дедушки «Птица на озере», затем выступала в хоре, исполнившем «Шестое благословение» Франка.
Мари-Анж было теперь пятнадцать с половиной лет, и она была выше матери. Держалась она презрительно и самоуверенно, что часто бывает с девушками в этом возрасте и что объясняется лишь нетерпеливым желанием быстрее покончить с затворнической жизнью. Ее золотисто-каштановые волосы, разделенные пробором, падали на плечи и заворачивались валиком: Мари-Анж ценила флорентийские портреты.
Жаклин, глядя на дочь, не видела в ней ничего, что напоминало бы ее самое, но невольно отмечала черты – разрез глаз, рисунок рта, длинную спину, – напоминавшие ей Франсуа.
Габриэль в тот день держался молодцом: он уже протрезвел после выпитого накануне, а заново еще не накачался. «Благословение» Франка было ему скучно, но он получал удовольствие от вида этих девчушек и, пожалуй, особенно от вида Мари-Анж. У него было такое ощущение, будто он погружается в свежую и слегка надушенную воду.
«Ну вот, – говорил он себе, – вот единственный способ быть счастливым. Жениться на хорошенькой девочке лет шестнадцати, поселить ее в деревне, наделать ей детей, а самому немного погулять».
Жаклин боялась этого дня. Но, к ее удивлению и радости, ничего не произошло.
Вечером она простилась с Жан-Ноэлем и Мари-Анж, отправлявшимися в обществе своей тети Изабеллы на зимний курорт. Жаклин предпочитала отказать себе в удовольствии побыть вместе с детьми во время рождественских каникул, только бы не подвергать их на целых две недели изменчивым настроениям отчима.
Она охотно сама поехала бы с ними в горы, вместо того чтобы оплачивать это путешествие Изабелле: «О, как хорошо было бы устроить себе передышку… Но одному Богу известно, что еще может выкинуть Габриэль в мое отсутствие…» И та самая причина, которая побуждала ее уехать, заставляла ее остаться.
Воспользовавшись минутой, когда Габриэль вышел из комнаты, она торопливо сказала детям, не отрывая взгляда от двери:
– И не забывайте молиться за папу, мои дорогие… Я никогда не забываю, знайте это.
Мари-Анж бросила искоса взгляд на мать с известной долей презрения и безразличия. Ее прежде всего интересовало, будут ли там в горах мальчики; она была убеждена, что скоро всех научит, как надо жить. Но до чего же это долго – целых двадцать четыре часа ожидания в день! Ибо и во сне она не переставала ждать.
В тот же вечер Габриэль и Жаклин вернулись в Моглев, взяв с собой госпожу де Ла Моннери.
Поскольку кюре из Шанту-Моглева обслуживал одновременно несколько приходов, между которыми старался поровну распределять свои милости, полунощную мессу в этом году он служил не в Моглеве, и в замке все рано легли спать, как в обычный день.
Наутро Жаклин поехала раздавать подарки под елкой в народной школе. А Габриэль, покончив с кроссвордами в «Грингуаре» и «Кандиде», прошел на псарню, чтобы поговорить с Лавердюром о завтрашней охоте. Лавердюр прочешет лес в направлении Сгоревшего дуба, где, по словам лесничих, появились олени.
– У вас не найдется, Лавердюр, стаканчика белого вина для меня? – спросил вдруг Габриэль.
– Ну конечно, как не быть, господин граф… Леонтина! – позвал доезжачий. – Принеси-ка нам бутылочку – ты знаешь какого.
– Ах, месье, зря вы так! От этого только здоровье портится! Говорю вам откровенно, – объявила Леонтина Лавердюр.
– Ладно, хватит болтать-то, – обрезал ее доезжачий. – Господин граф ведь оказывает нам честь…
Через некоторое время Габриэль спустился в деревню. По пути ему попался мэр и пригласил его отведать марка нового урожая.
– Он, конечно, жестковат на вкус, господин граф, – сказал мэр, – но аромат… и потом на языке долго остается: вы сразу это почувствуете – вы ведь знаток.
Мэр, размышляя о будущих муниципальных выборах, радовался, что новый владелец замка слывет в деревне пьяницей.
В замке первая половина ужина прошла, однако, спокойно. Габриэль нашел лишь один повод вставить неприятное словцо. Когда госпожа де Ла Моннери заговорила о каком-то человеке, овдовевшем несколько лет назад, Габриэль, повернувшись к Жаклин, заметил:
– Вот за кого вам надо было выходить замуж – вы бы могли тогда поженить своих мертвецов.
Жаклин, взявшая в рот немного пюре из каштанов, – к индейке она и не притронулась, настолько тревога лишила ее аппетита, – промолчала.
Большая столовая в Моглеве была вся украшена исключительно оленьими рогами. На стенах, на дверных панно и даже на балках потолка висели, не оставляя ни сантиметра свободного пространства, две или три тысячи убиенных. Кое-где виднелись побелевшие рога столетней – а то и больше – давности. Неяркий свет керосиновых ламп и канделябров создавал огромные тени, и это собрание черепов и рогов, обступавшее вас со всех сторон, куда ни глянь, напоминало и ведьмино дерево, и комнату пыток.
Слепец, чьи чувства все более угасали, походил в этих декорациях не столько на живого, сколько на призрак, удерживаемый на земле нитями паутины. Госпожа де Ла Моннери, чей слух слабел по мере того, как день клонился к вечеру, разговаривала сама с собой, не заботясь о том, слушает ли ее кто-нибудь, и не дожидаясь ответа.
Флоран, обнося блюдами, натужно дышал, издавая хрипы, поднимавшиеся из глубины груди.
Никогда еще Жаклин так остро не чувствовала, сколько опасности, враждебности и мрака скопилось в этом месте, и никогда еще собрание присутствующих не казалось ей столь зловещим.
– В другие годы вы встречали Рождество в Париже с… словом… с моим предшественником, – произнес вдруг Габриэль безразличным тоном, которого так боялась Жаклин.
– Да… возможно… такое случалось… – ответила она.
– Но ведь это не так трудно вспомнить, верно? Так да или нет?
– В общем, да, встречала, – тихо ответила она.
– Тогда почему же мы не остались там вчера, чтобы встретить Рождество?
– Потому что я не подумала, а вы ничего не сказали.
– Нет, я вам предлагал!
– Тогда, значит, я не расслышала.
– Опять вы лжете!
И Габриэля понесло. Значит, он годится лишь на то, чтобы общаться с поверенными, приглядывать за доезжачими и собаками. Его заперли в деревне. И с ним не желают делить удовольствия, которые делили с другим… Он – лакей при вдовице, лакей при вдовице…
Жаклин чувствовала, что сейчас потеряет сознание – от слабости, бессилия и муки.
Слепец выуживал ложкой кусочки индейки, нарезанной маленькими кубиками, и весь мир сводился для него сейчас к расстоянию между ртом и тарелкой.
А госпожа де Ла Моннери говорила о фризах с Парфенона, находящихся в Лувре.
– Если угодно, да! – воскликнула вдруг Жаклин. – Я бывала счастлива прежде в Рождество, удивительно счастлива – больше я так счастлива никогда не буду. И я прошу вас только об одном – дайте мне забыть, что сейчас Рождество.
Габриэль поднялся во весь рост, опрокинул стул.
– Ах, вот как! – воскликнул он. – Очень хорошо. Все устраивается как нельзя лучше. Рано или поздно это должно было кончиться. Вот и кончится сегодня вечером или никогда вообще. Я уезжаю в Париж, и для меня начинается новая жизнь!
Он кинулся к двери, зацепился плечом за висевшие на ней рога, буркнул: «Бордель!» – и выбежал из комнаты.
Жаклин просидела несколько минут, уставясь в пустоту, затем встала и в свою очередь вышла.
– Куда это они? Что происходит? – спросил слепец.
– Пустяки, мой бедный Урбен, – ответила госпожа де Ла Моннери. – Он же служил в колониальных войсках. Приступ тропической лихорадки!
А Жаклин, набросив на плечи накидку, выбежала следом за мужем во двор.
Габриэль в меховой шубе садился в машину.
– Поступай как хочешь, Габриэль, – сказала она, – только умоляю, не езди как сумасшедший.
Она едва успела отдернуть руку, иначе он размозжил бы ее, прихлопнув дверцей.
– Не огорчайтесь, – сказал он. – Если я разобьюсь, вы будете мучить вашего третьего мужа, вспоминая обо мне. Какой я даю вам шанс!
Выехав за ворота, он понял, что ему совсем не хочется проделывать одному долгий путь в холодной и темной ночи.
Он завернул в Монпрели, чтобы попытаться соблазнить Жилона. Отставной майор отходил ко сну в пижаме из толстой полосатой фланели и в очках на изборожденном красными прожилками носу.
– О нет, старина! – ответил он. – Я весь этот месяц ходил по банкетам. У меня болит печенка, болит поясница. Да и тебе лучше бы лечь спать.
– Прекрасно, значит, и ты меня бросаешь, и ты отворачиваешься от меня, – сказал Габриэль. – А я говорю, что должен начать новую жизнь.
На обратном пути, пересекая столовую, Габриэль открыл буфет, где хранились вина, и стоя опрокинул три рюмки коньяку.
От Монпрели до «замка» 1880 года, где обитал ван Хеерен, было всего три километра.
– Какой счастливый ветер занес вас к нам! – воскликнул необъятный голландец.
На нем была домашняя куртка из синего бархата с позументами, придававшая ему вид тамбурмажора времен Империи.
– Ван Хеерен! Знайте: вы мой единственный друг, – сказал Габриэль. – Надевайте смокинг. Едем прожигать жизнь!
– Если у жизни толстая задница, тогда можно, я еду, – ответил, подмигнув, краснорожий голландец.
В вестибюле замка пахло вареньем «домашнего производства»; вышитые сиденья стульев тоже были «домашнего производства»…
Баронесса ван Хеерен вышла к ним в халате: она была плоскогруда, с редкими волосами и усохшим задом; скулы у нее блестели, точно надраенные замшей. На лице застыло встревоженное, виноватое и вместе с тем измученное выражение – такие лица бывают у всех жен пьяниц, и это выражение начало появляться у Жаклин.
– Дурно это, господин Де Воос, дурно то, что вы делаете, – сказала она. – Вы еще молоды. А с моим мужем в один прекрасный день случится беда.
Но в застывшем взгляде Габриэля она уловила столько цинизма, что тотчас испуганно смолкла.
Весь первый день Рождества напролет обе палаты провели в заседаниях – с тем чтобы закон о финансах был принят до 31 декабря. К 11 часам вечера утверждение в Люксембургском дворце, после блестящего выступления Симона Лашома, призвавшего сенаторов дать ему средства для защиты «самой замечательной, самой несомненной, самой священной части наследия Франции – ее художественных ценностей и жизнеспособности ее культуры».
Для Симона, тщательно подготовившего этот бюджет все в том же здании на улице Гренель, где он, по приглашению Анатоля Руссо, начинал свою карьеру, это было большим успехом. Молодой заместитель министра – а он умудрился сохранить свой портфель при двух кабинетах, – выйдя в тот вечер из сената, задавался вопросом, что ему делать дальше. Позвонить Сильвене? Нет. Ему скорее улыбалось провести вечер в мужской компании, чтобы успокоиться и сбросить нервное напряжение после заседания сената, а потом лишний час поспать. По мере того как шли годы и росли его обязанности как политического деятеля, Симон спал все меньше и меньше. Зато нагонял за счет еды.
– Пойдем съедим по бифштексу и разопьем по бутылочке бургундского в «Карнавале», – предложил он одному из своих сотрудников.
Перепробовав без всякого удовольствия немало разных заведений, он остановил выбор на «Карнавале», и туда, по его собственным словам, как «лошадь в конюшню», неизменно приводили его и радость, и горе, и усталость, и успех, и любовь, и жажда уединения.
И не потому, что это место было намного лучше других, – просто Симона привязывали к нему воспоминания и привычка. Метрдотелей он знал по имени, к нему относились с уважением и встречали дружеской улыбкой. Ресторан старился вместе с ним.
– Добрый вечер, Абель. Где-нибудь в укромном уголке, – сказал Симон, войдя в ресторан.
– Ну конечно, как всегда, сию минуту, господин министр, – сказал метрдотель.
Симон не принадлежал к числу тех завсегдатаев, перед которыми автоматически ставилось ведерко с шампанским, – кухня всегда готова была приготовить ему блюда по его выбору, и счет ему подавали весьма скромный.
Время от времени Симон избавлял хозяина от штрафа или добивался для него сокращения налогов.
В этот вечер его посадили за отдельный столик рядом с внушительной личностью, хранившей высокомерное молчание и восседавшей очень прямо на банкетке, словно гигантская колбаса или чудовищный фаллос, который тут поставили. Его общество разделял человек с золотой цепочкой на запястье, не перестававший объяснять своему спутнику, что жизнь начинается именно сейчас и именно тут, что надо все подчистить, все ликвидировать и что он готов расквасить морду первому, кто… и вообще «если ему будут докучать, то кладбища ведь созданы не для собак».
– Возможно! – отвечал первый.
Оба крепко пили. Внезапно тот, что с золотой цепочкой, поднялся, встал перед Симоном, схватил его за обе руки, пригвоздив к тарелке нож и вилку, и воскликнул:
– Я слышу, вы – Симон Лашом? Рад вас встретить, потому что мне много говорили о вас. Ведь вы один из тех, кто уничтожил Шудлера?
У него был злобный взгляд пьяного человека, и Симон, забеспокоившись, попытался высвободить руки.
– Позвольте вас поблагодарить, – продолжал тот. – Вы сейчас все поймете: я – Де Воос, муж вдовицы.
Симон не мог скрыть удивления.
– Она, знаете ли, теперь вас ненавидит, – продолжал Габриэль. – Еще бы! Вы покусились на отца ее Франсуа, на богатство ее Франсуа, на газету ее Франсуа!..
– Но, месье… я никогда не имел ничего против Франсуа Шудлера, у нас всегда были с ним хорошие отношения, – сухо возразил Симон.
– А-а, так вы, значит, тоже считаете, что это был хороший человек! – воскликнул Габриэль.
– В общем… в деловом плане… ничего другого я сказать о нем не могу, месье, – поспешил добавить Симон.
Габриэль провел рукой по нижней челюсти.
– Никто, – сказал он, – слышите меня, никто не доставлял мне таких страданий. А потому те, кто его защищает, – мои враги.
И, не спрашивая разрешения, он уселся за столик Симона. Он был в вечернем костюме. Пьяное кокетство побудило его заехать на улицу Любек и переодеться.
Так получилось, что до этого дня Симон и Де Воос ни разу не встречались. В Париже Симон и Жаклин вращались уже в разных кругах. В Берри, хотя избирательный округ Симона и был рядом с Моглевом, он не бился за интересы владельцев замков и псовых охот. А после катастрофы ни у Жаклин, ни у Симона не было никаких оснований возобновлять отношения.
А потому Симону было любопытно познакомиться с новым мужем той женщины, на которой когда-то он сам собирался жениться.
«Правильно я поступил, – говорил он себе, – или, может, правильно поступила судьба. В хорошенькое я попал бы положение, когда они обанкротились».
Он разглядывал Габриэля.
«Вот, собственно, тот тип мужчины, какой ей больше всего подходит, – думал Симон. – Красивый, за словом в карман не лезет, наверное, идиот и выпивоха. То, что надо для жизни в деревне».
Он ничего не понимал из тех признаний, которые делал ему Габриэль, и считал, что под влиянием алкоголя тот выкладывает ему застарелые обиды на Ноэля Шудлера.
Симон вспомнил и другого пьяницу, который десять лет назад в этом самом зале сказал ему: «Шудлеры? Конченые люди! Через неделю у них на авеню Мессины вы увидите надпись: “Продается”…»
И все же это произошло. Люлю Моблан… странный призрак, возникавший порой на путях воспоминаний Симона, в фетровой шляпе, с шишками на голове…
Симон поднес бокал к губам.
В этот момент свет притушили, в углу вспыхнул прожектор, и после барабанной дроби дирижер возвестил, что дирекция «Карнавала» имеет величайшее удовольствие представить публике Анни Фере, только что вернувшуюся из триумфальной поездки по Южной Америке… «в своем репертуаре».
– О господи! Еще один призрак! – произнес Симон Лашом, обращаясь к своему сотруднику.
В луче прожектора появилась певица, заштукатуренная охрой, улыбающаяся и постаревшая. Она невероятно располнела. Под платьем между бюстгальтером и затянутой талией выпирали подушки жира. И Симон подумал, сколько же провалов, обманутых надежд, несостоявшихся романов произошло за время этого «триумфального турне», чтобы Анни Фере тоже вернулась сюда, в конюшню, к кормушке.
Она сказала, что начнет с песенок, знакомых ее прежним друзьям, сидящим в этом зале (хозяин предупредил ее, что здесь Лашом), – с песенок, которые были в моде в 1920–1922 годах: «Мой мужчина», «Продавщица фиалок»…
Нелепое волнение перехватило горло Симону, когда он услышал эти мотивы, сопровождавшие его вступление в парижскую жизнь. И он снова, как в прошлые времена, протер большими пальцами стекла очков. Да что там! Разве такой уж он старый, хотя за это время вполне можно было преуспеть в жизни или потерпеть поражение, создать что-либо или не создать… Ему казалось, что жизнь можно уместить на ладони.
Ни один восхитительный город, ни один нежданно появившийся близкий друг не может так быстро и точно воскресить прошлое, как банальная мелодия, которая была популярна в те времена. И эти несколько нот, несложных ритмов и жалких рифм, воздействуя на некие таинственные узлы, вдруг протягивают нить между нами и картинами из нашей прежней жизни, между нами и руками далеких подруг, лицами ушедших.
Теперь Анни Фере перешла на шлягеры дня или года вроде «Говорите мне о любви», новые песни, которые через десять лет будут вызывать столь же сильные воспоминания. Но этих песен Симон не слышал – он услышит их лишь позже…
Он знаком велел официанту наполнить бокалы. Он не хотел напиваться, конечно нет, но на него напала жуткая меланхолия, накрыла его, словно мокрой простыней.
Ведь это был все тот же официант, который вот уже десять лет наклонял над его бокалом бутылку; и все тот же толстый цыган-скрипач дирижировал оркестром и заставлял свою скрипку петь «Венгерский вальс», – совсем особый, бросая на пары все тот же томный взгляд; правда, волосы теперь у него стали уже совсем седые; и все та же девица стояла у вешалки и продавала сигареты; и все так же Анни Фере пела…
«Как только эти люди могут, – спрашивал себя Симон, – каждый день надевать одну и ту же одежду, повторять одни и те же жесты – с юных лет до самой старости, так ничего и не добившись… и не бросившись в реку?»
Вот так же встречаешь через пятнадцать лет знакомого кондуктора в автобусе, который ездит все по той же линии, в один и тот же час, прокалывая одни и те же билеты одним и тем же пассажирам…
И Симон почувствовал какое-то необъяснимое отчаяние от этих ежедневных, неизбежных повторений, составляющих жизнь маленького человека. Он опустошил бокал. Ему не хотелось много пить, но немного все-таки можно…
«И все тот же я сижу тут и пью…»
Ну нет! Он не был тем же. Он как раз отказался вести каждое утро курс латинской грамматики в одном и том же классе, и он не вернулся на тот же пятый этаж на улице Ломон… «Ломон… De Viris… смешно…» – и он не стал есть один и тот же обед под неизменным взглядом сидящей напротив Ивонны…
Он возвысился, он преуспел, он сменил немало назначений, немало женщин… Он стал в этом мире счастливчиком, потому что достоин был этого… Он добился того, что они приняли проект бюджетного финансирования искусства («художественное наследие Франции»).
Он дошел до крайнего предела в оценке собственных поступков и в презрении к самому себе.
Он понял, почему народы сотрясает дыхание революций и почему даже войны воспринимаются порою с радостью – все потому, что слишком многие устали крутить все тот же жернов, с тем же самым зерном, а потому неудивительно, что в один прекрасный день они восстают и наступает взрыв…
Тогда почему же он, Симон, отказавшись не только тупо долбить каждое утро «De Viris!», но и еще до этого, в детстве, водить одну и ту же корову к водопою и все ту же лошадь в поле, – почему же он не встал в ряды бунтовщиков, а без чьей-либо помощи, умело орудуя кулаками, пробил себе дорогу к одному из самых лучших мест за банкетным столом?
Есть такие случаи, когда чувствуешь себя предателем только потому, что не вступил на правый путь. И чувство это невероятной горечью отравляет порою лучший напиток.
Анни Фере, не успев закончить выступление, кинулась к столику Симона.
– Ох, Лашом! Какой сюрприз! – воскликнула она. – До чего же я рада! Послушай, ты стал знаменитостью… П-ф-ф! Какая карьера! Я об этом читала там в газетах. Еле набралась смелости, чтобы с тобой заговорить.
Она настолько ее набралась, что стала даже обращаться к нему на «ты», чего никогда не делала раньше.
– Гляди, кончишь тем, что станешь президентом Республики, – добавила она.
Совесть – судья, который быстро отменяет свои приговоры, и Симон почувствовал себя в полном согласии с самим собой благодаря дешевым комплиментам этой толстой певички из кабаре, которая, подрагивая жирными телесами, подошла погреться в лучах славы не ради чего-нибудь, а просто ради удовольствия вдохнуть ее аромат, как вдыхают запах чеснока, натертого на хлеб.
– О-о! Вот и Габи! – воскликнула она, узнав Де Вооса. – Значит, все завсегдатаи сошлись! Но я и знать не знала, что вы дружите!
– А мы и не знали друг друга до сегодняшнего вечера, – ответил Симон.
– Ах, вот оно что!.. А вот про тебя не скажешь, что ты помолодел! – добавила она, обращаясь к Де Воосу. – Это меня утешает. Видишь, сколько я набрала? – добавила она, взявшись за жирные бока. – Но это все не в счет. Главное – в душе чувствовать себя молодой!
Анни Фере принадлежала к числу «добропорядочных» и держала мелочную лавку.
Ван Хеерен вдруг перестал заниматься углубленным созерцанием собственной персоны; глаза его загорелись, как две круглые лампочки на лице манекена, и, впившись взглядом в округлый зад певицы, он произнес:
– Де Воос, милый мой друг, вот это, наверное, и есть та жизнь, о которой вы говорили!
– Ну а как Сильвена? – спросила Анни Габриэля. – Вы по-прежнему вместе? Нет, все кончено?.. Ты женился? А, браво! Счастлив?..
– Какая Сильвена? – спросил Симон.
– Сильвена Дюаль, ты должен был ее знать! Ну конечно, ты ее знаешь! – ответила Анни. – Эта тоже из тех, кто сумел взобраться высоко! Как подумаю, что ведь это я вложила ее ногу в стремя… образно выражаясь… когда был еще жив бедняга Люлю. Но они долго были вместе, Габи и она. Он, кстати, дорого ей обошелся: он ведь умеет обдирать. Разве не так, Габи?..
Симон понял наконец, что этот человек в вечернем костюме, сидевший перед ним, чуть не падая на стол, с перстнем на пальце, с золотой цепочкой, с крахмальными манжетами, торчащими из-под фрака, с седеющими висками и мешками под глазами, и был той великой любовью, столь трагически оборвавшейся, о которой говорила ему порой Сильвена, чтобы придать себе больше аристократизма и таинственности.
На лице Симона появилось такое выражение, что Анни Фере спросила:
– Я случайно не ляпнула лишнего?
– Нет-нет, – сказал Симон.
Успокоившись, Анни Фере вернулась к Сильвене.
– А потом, ведь она и к девочкам неравнодушна, – добавила Анни. – По мне-то ничего в этом страшного нет.
«Да… значит, еще и девочек, а почему, собственно, нет… еще и это тоже, – подумал Симон. – Немножко в ту сторону, немножко в другую… Мужчина или женщина, какая разница?..»
Но Симону не удавалось избавиться от нахлынувшего на него необъяснимого чувства отвращения…
Сильвена с Симоном, Анни с Сильвеной, Сильвена с Мобланом, Марта с Вильнером, Стен с Мартой, Марта с Симоном, а Симон со Стеном в одном министерстве… Симон с г-жой Этерлен, г-жа Этерлен с Жаном де Ла Моннери, Жаклин де Ла Моннери с Де Воосом, Де Воос с Сильвеной, Сильвена с Вильнером, Симон с Сильвеной… эта баллада о пленниках секса вдруг закрутилась у него в голове. Мрачный танец любви, которая кружит и кружит в хороводе, одни поколения цепляются за другие, и мертвые вперемешку с живыми! Нет, это не только конюшня, кормушка и стая, это манеж, где бык привязан к колесу и шагает по кругу, топча собственные экскременты…
Все та же скрипка сопровождает своим томным пением нагромождение этой гадости, и перед Симоном по-прежнему либо Нейбекер, который сидел тут десять лет назад, либо Де Воос, который сидит сегодня, военный герой, накачавшийся наркотиками или алкоголем и символизирующий крушение силы.
Симону, который на протяжении десяти лет наблюдал, забавляясь, непрерывное скрещивание пар, который занимал место за этим игорным столом, словно за большим столом казино, держась с неизменным высокомерием, вдруг стало душно и мерзко. Почему? Что произошло?
– Вообще-то, – говорил Де Воос Анни Фере, – надо было мне остаться с Сильвеной. Замечательная девчонка. Я не очень красиво ее бросил. И знаешь, недели две тому назад на меня напала тоска, и я снова переспал с ней… всего одна ночь… а мне стало легче.
Симону показалось, будто ему под кожу стали вводить раскаленный железный прут. И было не просто больно – было страшновато, потому что все вдруг изменилось: температура тела, давление крови, течение мыслей. Ему захотелось сбросить со стула этого пьяного кретина, и только сознание, что его могут узнать, удержало его.
«Недели две назад…» – значит, в ту неделю, когда Симон раза три или четыре встречался с Сильвеной. Значит, ей было этого недостаточно?
«Да что со мной? – спрашивал себя Симон. – Плевал я на эту девку. Я встречаюсь с ней, когда мне охота и ей тоже. И мы ничем друг другу не обязаны. Она совершенно свободна и в те ночи, когда я не с ней, может делать все, что ей заблагорассудится. Я совсем рехнулся!»
Он нетерпеливо потребовал счет, расплатился и, едва попрощавшись с Анни Фере, ушел.
– Что-то, видно, я ляпнула лишнее, – сказала певица, когда он вышел из зала.
…Симон высадил приятеля на углу:
– До вас тут два шага, верно? – И он поехал на Неаполитанскую улицу.
«Забавно будет, – с усмешкой подумал он, – если этот кретин тоже явится к ней сегодня ночью».
Введенный ему под кожу раскаленный прут по-прежнему жег грудь и бедра, и это ощущение он с трудом мог переносить.
Сильвена уже легла, она была одна и сама ему открыла; она щурилась со сна и, хоть и удивилась его приходу, в общем была довольна. Не произнося ни слова, Симон влепил ей две пощечины – справа налево, наоборот…
Раскаленный прут стал охлаждаться и выходить у него из-под кожи.
Так Симон и Сильвена поняли, что они любят друг друга.
Зал «Карнавала» опустел. Оркестр играл лишь для ван Хеерена, дремавшего за столиком, и Габриэля, сидевшего в одиночестве за другим столиком, – он попросил бумаги и теперь писал.
Анни Фере уехала. Скрипач посматривал на метрдотеля, метрдотель посматривал на официанта: один счет положили перед голландцем, другой – перед Габриэлем. Последний рассеянным жестом положил счет в карман и знаком попросил, чтобы ему еще налили.
Он был пьян и знал это. Голова у него была поразительно ясная, тогда как весь мир вокруг будто затянуло зыбким туманом, – и он чувствовал себя словно светящейся точкой, окруженной абсурдным круговым движением. Наконец-то Габриэль открыл для себя, как устроен мир. И голова у него была не просто ясная – он ощущал себя поразительно умным.
«Поскольку я решил со всем покончить, надо, чтобы она знала почему», – сказал он себе.
И наверху принесенной ему бумаги он начертал:
«Поскольку я решил со всем покончить, надо, чтобы Вы знали почему…»
А затем фразы сами стали ложиться на бумагу: Габриэль находил четкие, точные выражения, что удивляло его самого.
«Поскольку Вы больше меня не увидите, я хочу, чтобы Вы знали почему. Два с половиной года Вы заставляли меня страдать, как невозможно страдать мужчине. Нельзя заставлять страдать так упорно, как это делали Вы…»
Текст этот казался Габриэлю мучительным и в то же время ослепительно прекрасным – смущало его лишь то, что все строки в конце сходились в одну точку. Но это же нормально: параллельные прямые в бесконечности пересекаются…
«Вы все время разговаривали с Вашим покойником. Вот только ответил ли он Вам хоть раз? Ага! Он не отвечал Вам, потому что там, по ту сторону, нет ничего… И вечной Вашей мукой будет, когда Вы это поймете. По ту сторону нет ничего, ничего!»
Течение его мыслей прервало появление ватаги гуляк в бумажных колпаках, дувших в деревянные дудочки.
От их появления веяло уже прошедшим праздником, глупым стремлением продлить вчерашнее веселье, не снимая праздничных одежд.
Покачиваясь на нетвердых ногах, поддерживая друг друга, громко переговариваясь, чтобы не заснуть, эти обломки парижского Рождества со следами несварения желудка на лицах послужили для Габриэля оправданием его ярости.
Вконец обессиленные музыканты изобразили веселье и радость, и в ловких руках официантов захлопали пробки шампанского.
«…Месть, – продолжил свое письмо Габриэль. – Вы заслужили те беды, которые на Вас обрушились и которые еще обрушатся в будущем».
Он нисколько не удивился, когда, подняв от бумаги глаза, увидел ван Хеерена в тюрбане из гофрированной бумаги, как не удивился и тому, что секундой позже на голове у него самого появился клоунский колпак.
Пестрые ленты серпантина полетели в залу, обмотались вокруг его шеи, манжет, пера, крошечные резиновые шарики отскакивали от его висков.
Девица, подобранная крикунами по дороге, в менее изысканном заведении, чем «Карнавал», подошла к Габриэлю и, нагнувшись над его столом, произнесла тем ироничным, подтрунивающим и почти агрессивным тоном, каким нередко говорят продажные женщины:
– Кому это вы тут строчите? Вот уж сейчас совсем не время! Это что – любовное послание?
Габриэль поднял брови и обратил к ней невидящие глаза – он даже не заметил, какая она бледная, с приглаженными черными волосами и что ее можно было бы даже назвать хорошенькой, если бы не слишком близко посаженные глаза и не слишком широкие скулы.
– Не больно-то вы разговорчивы! А я, знаете ли, совсем не хочу вам зла! – добавила она. И двинулась в направлении вешалки.
А Габриэль, по-прежнему обмотанный бумажными лентами, снова склонился над листом бумаги.
«Вы совершенно не поняли, какой я человек, и, поскольку Вы совершенно не поняли, какой я, Вы, естественно, не сможете понять моего письма…»
Тут Габриэль опустил перо, взял листок и, следуя своей пьяной логике, его разорвал.
В эту минуту шумная ватага, толкая перед собой свое веселье, словно тачку, выкатилась из «Карнавала» и отправилась куда-то дальше рассыпать конфетти и стрелять из хлопушек.
Девица, появившаяся через несколько секунд из вестибюля, воскликнула:
– Ну и мерзавцы! Они же меня бросили!
И, подойдя к столику Габриэля, уселась рядом с ним.
– Кончили, значит, письмо? – спросила она. – У вас что, неприятности? Да не думайте вы о них. Веселиться надо. Может, пойдем отыщем друзей? По-моему, я знаю, куда они отправились.
Она сдернула с Габриэля клоунский колпак, водрузила его себе на голову, повернулась к зеркалу со словами: «Ну как, идет мне?» – затем, подхватив Габриэля под руку, попыталась поднять его с места.
– Да ну, пошли же, тут скучно!
– Да, – сказал, поднимаясь, Габриэль. – Надо мне все ей объяснить, объяснить самому. А потом – там посмотрим… – добавил он, широко и неопределенно поведя рукой.
Ему принесли шубу. И он вложил в руку швейцару сотенную бумажку.
– А ваш счет? – спросил метрдотель, согнувшись в поклоне и протягивая ему новый счет.
Габриэль снова широко и неопределенно повел рукой в направлении барона-голландца.
Музыканты принялись быстро укладывать инструменты в футляры, а официанты – собирать в корзину серпантин и обрывки письма.
Ван Хеерен, внезапно осознав, что все его покинули, воскликнул:
– Дорогой друг!.. – и рухнул на банкетку, где на сей раз в самом деле заснул.
Габриэль вышел с девицей, уцепившейся за него или, вернее, за его шубу, за его теплую и элегантную одежду.
Она сама была достаточно пьяна – постыдность одиночества и автоматически возникшая надежда что-то урвать побуждали ее прилепиться, словно водоросль, к этому мужчине, который даже не отвечал ей.
Они сели в машину, дверцы захлопнулись, и Габриэль рухнул на руль, упершись головой в руки.
– Но что же все-таки со мной? Что со мной? – простонал он.
Его совершенно сбивало с толку это происходившее в нем чередование отчаяния и ненависти.
Девица обвила его шею рукой.
– Да ну, не грусти же, вот увидишь: я тебя утешу, котик, вот увидишь, – прошептала она. И лизнула языком ухо Габриэля, словно хотела втолкнуть эти свои слова в его сознание.
А Габриэль усиленно пытался вспомнить фразы своего письма и особенно этот поразительный, неоспоримый довод, который все разъяснял.
— Это ты забрала мое письмо, а? – злобно спросил он у девицы.
– Да нет же, котик, ты сам его разорвал!
– Неправда!
– Да честно, правда же!
– А-а, тогда, пожалуй… – произнес Габриэль.
И машина не спеша покатила.
Девица погладила бобровую подкладку шубы.
– Ну не глупо, – прошептала она, – ставить такой мех внутрь!.. Знаешь, что мне в тебе сразу понравилось, – добавила она, – это то, что ты во фраке. До чего же благородно – фрак… Ну и куда же мы едем, котик?
Де Воос вел машину к Итальянским воротам.
– Ты там живешь, да? – снова спросила она.
Он вдруг остановил машину посреди проспекта, схватил девицу за плечи и, продираясь сквозь двойную завесу пьяного тумана, попытался уловить взгляд ее слишком близко посаженных глаз.
– Что там, по-твоему, по ту сторону? – воскликнул он.
– Где это – «по ту сторону»?
– Ну, когда умрешь!
Девица пожала плечами и ответила:
– Ах, вот что тебе покоя не дает! Зачем же тогда пить-то!.. Брось, не мучайся, ничего там нет. А что нам все рассказывают – так это одни сказки! Ничего там нет, точно знаю. В этом-то вся и штука!
– Ага! Вот, значит, как? Ты тоже в этом уверена! – воскликнул Габриэль, победоносно усмехнувшись. И, нажав изо всех сил на газ, помчался дальше. – Теперь я знаю, что мне делать, – пробормотал он.
– Эй! Эй! Не знаю, что ты там должен делать, а только убивать-то уж нас не надо. Давай, красавец мой, сбрось-ка скорость.
Она погладила его по руке, по шее, по ноге, пытаясь успокоить. Но Габриэль ничего не слышал и ничего не чувствовал.
«А-а! Наконец-то я выиграю, наконец я ей докажу…» – твердил он про себя. А по обе стороны шоссе мчались мимо фонари, тротуары, дома, чередуясь, словно пятна солнца и тени на глади озера. Машина выехала за Парижские ворота.
– Если вы сейчас же не остановитесь, я позову на помощь, я позову полицию, – сказала девица, от страха снова перейдя на «вы».
Колеса машины подскакивали на мостовой Вильжуифа, а стрелка спидометра, слабо освещенная лампочкой на приборной доске, перескочила за сто.
А девица, чувствуя, как с каждым мгновением в ней нарастает паника, спрашивала себя, чем кончится эта поездка с обезумевшим пьяницей – разобьются ли они в ночи или произойдет дикое совокупление, после которого он ее придушит. Она взвыла нечеловеческим голосом, пронзительно и протяжно.
Тут Габриэль, казалось, заметил ее существование.
– В чем дело? Ты что, хочешь выйти? – спросил он.
Он замедлил скорость, не останавливаясь совсем, и, перегнувшись через девицу и открыв дверцу, вытолкнул ее вон.
Она сделала несколько шагов, теряя равновесие, споткнулась о тротуар, ухватилась за дерево, да так и осталась стоять, прижавшись к его стволу, чувствуя, как замирает сердце и покрываются холодным потом виски.
А задние огни машины уже исчезли вдали.
Спальня Дианы, прозванная так в честь Дианы де Пуатье, которая якобы останавливалась тут и для которой были выполнены украшавшие стены гобелены с охотничьими сценами, располагалась на третьем этаже и выходила на знаменитый фасад. Два высоких окна до полу вели в лоджию, откуда днем открывался вид на парадный двор, затянутый зеленью пруд и большую часть парка.
Эта комната с лепным потолком, с голубыми и золотыми фигурами на шпалерах, со стаями птиц, скачущими лошадьми и оленями, со всеми кабанами, пантерами, неграми и богинями, с кроватью, украшенной легкими витыми колонками, с флорентийским секретером, с двумя глубокими креслами в стиле Людовика XIV, обитыми зеленоватым дамасским шелком, была поистине спальней принцессы или феи-волшебницы, удивительным образом сочетавшей изысканность и уют. Жаклин всегда жила тут со времен своего первого замужества.
В этот час лишь одна колонка кровати, кусок шпалеры и одно из кресел, обтянутых дамасским шелком, были освещены малюсенькой оплывшей свечкой, которая стояла на ночном столике.
Жаклин лежала, разметав волосы по подушке, глаза ее были раскрыты, и она думала: «Надо бы все же провести электричество в Моглеве. По крайней мере, частично. Но пока жив бедный дядя, это невозможно: он не поймет. Да и потом, сколько надо ремонтировать! В одной этой комнате опоры у лоджии шатаются, паркет вздулся… Если начать…»
Она провела бессонную ночь, порой забываясь в полудреме, но ни ее сознание, ни мысль не отключались ни на миг. Ей казалось тогда, что ее черепная коробка приподнялась, словно каска, и что она видит, как под ней работает мозговая машина. Легкое снотворное, которое она приняла, ничего не дало – разве что понизило способность сопротивляться неотступной мысли.
«Конечно же он вернется, не может не вернуться. Вернется завтра… Собственно, мне лучше было бы, пожалуй, уехать в горы… Но только бы, только бы с ним ничего не случилось! Правда, у него всегда в машине талисман… Но если я буду придавать значение подобным вещам…»
Ей вспомнились первые недели после их встречи… «Если бы я могла вообразить такое…» Перед ее мысленным взором вновь возникла та пятница, когда они с Габриэлем стояли рядом на опушке леса в ожидании, когда собаки возьмут след. Габриэль сказал ей тогда – как бы в шутку, но голос его слегка дрожал:
«Ну, Жаклин, когда же мы поженимся?»
«Что ж, месяца через полтора, если вы не возражаете, Габриэль: как раз кончится сезон охоты…»
И Жаклин тогда показалось, что она вот-вот упадет с лошади.
…Стеарин переполнил розетку, и его бусинки, подобно ручейку, скатывались по серебряному подсвечнику.
Жаклин попыталась вспомнить, как проходило сватовство Франсуа, и с болезненным удивлением обнаружила, что ее воспоминания уже не отличаются точностью, да и возникли они у нее в памяти не сразу. Ей пришлось покружить по своему прошлому, чтобы нащупать в памяти останки своей первой любви. Время, хозяин всего на свете, поглотило даже это. И Жаклин подумала, что надо повседневно упражнять память, если она хочет спасти от этой безжалостной, все пережевывающей машины мгновения своего счастья.
«Видишь, Франсуа, видишь, – шептала она про себя, – в общем, я люблю его, пожалуй, столь же сильно, как и тебя, а может быть, сильнее, потому что я люблю его, так и не познав с ним счастья… И ты, возможно, на меня в обиде, да и он не понимает моей любви. Но почему он не может понять? И что делать? Все мы больные…»
Нарастающее урчание мотора в ночи; вот зашуршали по гравию шины… Жаклин затаила дыхание, чтобы убедиться, что эти звуки рождены не ею самой в ее нетерпеливом ожидании, что они реальны. Глаза ее наполнились слезами: Габриэль вернулся. Волнение ушло, оставив в ней физическую усталость и чувство, словно ее избили. Ни одна изнуряющая погоня на лошади не требовала столько сил, как эта ночь. Габриэль вернулся, но в каком он состоянии?
Не все ли равно? Ведь, несмотря ни на что, у нее не было другого желания, другого способа утишить боль, как прижать к себе его крупную голову, даже если он пьян.
Габриэль, вылезая из машины, сорвал с переднего стекла гладкий, тяжелый предмет, сунул его в карман шубы и захлопнул дверцу, забыв выключить фары.
Затем резко и вместе с тем не слишком уверенно он направился к двери со стороны старого фасада замка.
Он не заметил Лавердюра, шедшего из псарни с ищейкой на поводке.
Стояла еще ночная зимняя тьма – светать начнет лишь через полчаса, как раз когда Лавердюр займется делом.
Второй доезжачий, который должен был прочесывать сегодня утром дальний лес, уже какое-то время тому назад отправился в путь.
В замке и в пристройках все спало. Слышалось лишь рычание собак, проснувшихся, когда выводили их всех.
Лавердюр увидел при неярком свете фар, обращенных к службам, высокий силуэт Габриэля, открывавшего дверь в замок. Доезжачему стало неприятно, как всякий раз, когда он видел Габриэля пьяным.
Доезжачий подошел к машине, выключил фары.
«Подмораживает нынче утром, – подумал он. – Только бы вода в моторе не замерзла».
Приподняв капот, он отвинтил в радиаторе пробку и послушал, как вытекает вода.
«Не годится все же оставлять вот так открытыми двери замка на ночь, – подумал он еще. – Узнают – повадятся бродяги. Но ничего не поделаешь – нельзя запирать из-за господина графа, он возвращается когда ни попадя. Может, он тоже больной. Свалится когда-нибудь на лестнице. И придется мне относить его в комнату…»
Он подошел к двери в замок, которую Габриэль так и не потрудился закрыть. В этот момент ищейка издала жуткий долгий вой.
– Прекрати, Сигаретка, – сказал Лавердюр, сильно хлестнув собаку по морде.
Затем он привязал ее к большому чугунному столбу.
Габриэль не сразу сумел зажечь свечу, стоявшую на высокой консоли в вестибюле: он забыл закрыть дверь, и ток воздуха, овевая его, задевал руку и свечу, накрывал фитилек. Наконец в его пальцах загорелся желтый огонек, освещавший, по мере того как Габриэль поднимался по лестнице, нижнюю часть портретов маршалов, которые жили в Моглеве, их розовые руки с полированными ногтями в трещинках, властно лежавшие на стволе пушки или на карте Фландрии.
На площадке первого этажа что-то подло ухватило Габриэля за рукав, и он выронил свечу. Он зацепился манжетом за медное кольцо, сквозь которое был протянут служивший перилами толстый шнур из красного бархата.
Габриэль пошел дальше ощупью. До него смутно донесся звук шагов, где-то внизу вторивших его шагам. Но Габриэль был в таком состоянии, что, даже если бы под тяжестью его тени заскрипели ступени, он бы не обернулся.
Он поглаживал в кармане шубы гибкий и тяжелый предмет, оканчивавшийся гладким кругляшом, твердым, как камень, и Габриэль накрыл его ладонью, оберегая свое оружие.
Внизу лестницы возник рассеянный свет, словно розовая рука одного из маршалов подняла оброненную свечу. Когда Габриэль свернул в коридор третьего этажа, свет исчез. Но Габриэль заметил в глубине огромной темной коробки узкую желтую полоску, указывавшую на щель двери. А он как раз туда и направлялся.
Жаклин услышала приближающиеся шаги и затем, когда рука, словно звериная лапа, шарила в поисках бронзовой ручки, шорохи за дверью. Затем створка двери открылась, по обыкновению не без труда из-за вздувшегося паркета.
Жаклин увидела Габриэля – его плечи, накрытые бобром, измятую рубашку, белый галстук, съехавший под воротник. Она увидела его приближающееся лицо.
И если Жаклин вскочила, опустила маленькие голые ножки на паркет и, попятившись, сколько могла, прижалась к колонке кровати в поисках пути к бегству, то было это не потому, что лицо Габриэля было перекошено от обильных возлияний, а потому, что во время долгого пути по ночным дорогам оно превратилось в маску, где играла счастливая улыбка, демоническая и безумная.
Жаклин хотела крикнуть: «Габриэль!», но, на свою беду, произнесла: «Франсуа!»
Выбросив вперед руки, Жаклин еще раз попыталась закричать, чтобы привести Габриэля в чувство, вернуть его в человеческое состояние.
Но нога оленя уже опустилась на ее висок, крик застрял в горле – и голова Жаклин, ударившись, отскочила от дубовой колонки кровати.
Лавердюр, освещая себе путь старой зажигалкой военных времен, изготовленной из осколков снаряда, осторожно продвигался по коридору третьего этажа.
«Значит, он зашел к госпоже графине, в такой-то час, – сказал он себе. – Ну, тогда мне нет надобности…»
Он услышал сдавленный крик, и, хотя звук был приглушенный, крик этот был исполнен такого ужаса, что Лавердюр ринулся на звук.
«Да как же я смею-то! Как же я смею! – твердил он про себя. – Ведь, может, они уже в постели. Как я выглядеть-то буду?»
Он машинально сдернул с головы фуражку и сунул ее в карман своего старого пальто.
Дверь в спальню Дианы была приоткрыта.
Лавердюр увидел «господина графа», одной рукой державшего за ворот ночной рубашки недвижное, осевшее тело «госпожи графини», а другой колотившего ее по голове. Череп под ударами копыта глухо потрескивал.
Габриэль ничуть не удивился, увидев в дверях Лавердюра, и не стал сопротивляться, когда тот бросился отнимать у него труп.
Доезжачий, почувствовав под пальцами грудь Жаклин, отдернул руки, словно дотронулся до недозволенного.
«Господин граф, значит, сядет в тюрьму… – в этот момент подумал Лавердюр. – Полиция… газеты… а что будет с господином маркизом и с детьми…»
Со свойственной охотникам быстротой реакции он жестким взглядом сероватых глаз охватил разом всю комнату.
Все в порядке, никаких следов борьбы; одеяло, подушки – на месте.
Габриэль ошалело выпустил из рук свое оружие.
«По счастью, кость-то убивает, не разрывая кожи, – подумал Лавердюр. – А взял бы он подсвечник, все бы залило кровью…»
Единственно, из уха и правой ноздри у Жаклин вытекли две тоненькие коричневатые струйки, уже засохшие и тускло поблескивавшие.
Удары пришлись по тому месту, где волосы были особенно густые, и проломили череп, не повредив кожи.
Лавердюр поднял тело и, неся его на вытянутых руках, подошел к одной из стеклянных дверей, открыл ее, вышел со своей ношей в лоджию, висевшую на высоте двадцати футов в тиши ледяной ночи.
Он не спеша, тщательно все рассчитал, положил Жаклин животом на каменную балюстраду, которая уже давно грозила рухнуть. Затем, отойдя назад, он изо всей силы ударил сапогом по балюстраде, и камни вместе с трупом полетели вниз.
После этого он вернулся в комнату, закрыл стеклянную дверь, подобрал ногу оленя…
«Смотри-ка! Какой я умный! Хитро все придумал», – подумал он и, взглянув в сторону стеклянной двери, поспешил ее открыть.
– А ну, господин граф, поторопитесь-ка, – сказал он тихо и жестко, взяв Габриэля за локоть.
Они вышли, ничего больше не тронув в комнате. Под током воздуха, ворвавшегося в раскрытую дверь, свеча потрескивала, оплывала.
Мужчины прошли в спальню Габриэля, находившуюся рядом. Зажгли другую свечу. Габриэль послушно шел туда, куда его вели; он не противился, и когда Лавердюр раздел его.
И только на миг Габриэль, казалось, вышел из оцепенения.
Он сказал:
– Она же не могла мне ответить. Надо было мне об этом подумать. А так я теперь и не узнаю.
Лицо его позеленело, и Лавердюр дал ему пощечину, не злобно, а быстро похлопывая по щекам, чтобы его не вырвало.
Лавердюр разбросал небрежно по кровати и по полу – как ему казалось, так сделал бы богатый и сильно пьяный человек, – шубу, фрак, рубашку и белый жилет, лакированные туфли.
Быстро порывшись в шкафу и комоде, он натянул на Габриэля брюки для верховой езды, толстый свитер и сунул его ноги в непромокаемые сапоги.
– Ваше желтое пальто, господин граф, висит в вестибюле?
Габриэль кивнул головой.
– Идемте, не будем терять время, – сказал Лавердюр.
Они вышли в коридор. Теперь было уже не так темно. Лавердюр боялся, как бы не открылась какая-нибудь дверь. «Если кто-нибудь нас увидит, я же стану соучастником, я стану соучастником. И что мне тогда говорить?.. Почему я так поступил?..» Маловероятно было, чтобы кто-то услышал, как рухнули камни и следом за ними тело. Спальня маркиза находилась в другом конце замка. Флоран и его жена жили в полуподвале, под комнатами своего старого господина, чтобы тотчас являться к нему по первому его зову. Остальные слуги помещались либо в низеньких комнатках под крышей, либо во флигелях, и будильники у них еще не прозвонили.
В этой части дома жила только госпожа де Ла Моннери. Но она была совсем глухая… И тем не менее, когда двое мужчин стали спускаться по лестнице, Лавердюр услышал голос, донесшийся сквозь толщу резных деревянных стен и шпалер:
– Что там такое?.. Войдите!
В вестибюле Лавердюр надел на Габриэля желтое пальто, дал ему в руки мягкую шляпу и перчатки, затем вытолкнул на улицу, закрыл дверь и отвязал дрожавшую Сигаретку.
«Хорошо еще, что она не завыла», – подумал Лавердюр.
И пошел к машине, чтобы повесить на обычное место оленью ногу, предварительно вытерев ее о свое пальто.
Поддерживая Габриэля, Лавердюр обошел замок, стараясь держаться вдоль стен, не пересекать парадный двор и выйти в парк по боковой аллее.
Монументальный фасад начинал вырисовываться в сероватых сумерках, но различить что-либо на земле было еще невозможно.
«А что, если я оставил после себя еще какую-нибудь улику? – спрашивал себя Лавердюр. – Во-первых, наши следы на паркете – господина графа и мои. А потом неизвестно ведь, как упала госпожа графиня… Но отступать уже поздно. Вот только почему я это сделал?»
А Сигаретка уже начала тянуть.
Острая боль в кончиках пальцев, возникшая оттого, что Лавердюр надел ему сапоги прямо на тонкие шелковые носки, вернула Габриэля к реальности.
Он шагал по лесу, по просеке, нарождающимся утром. Шел он быстро, сам не зная куда, и, несмотря на скорую ходьбу, дрожал. Лавердюр, которого тянула за собой ищейка, на несколько шагов опережал его и глухо повторял:
– О, гой, моя хорошая, о, гой! Вот и взяла! Фю-фу-у…
Сигаретка устремлялась вперед, держа нос в нескольких сантиметрах от земли. Потом вдруг поднимала морду к какому-нибудь кусту, в нерешительности приостанавливалась, пытаясь уловить в холодном воздухе что-то, доступное ей одной, и бежала дальше.
Внезапно, без всякого на сей раз колебания, Сигаретка ринулась вперед, чуть не вырвав поводок из рук доезжачего, взбежала вверх по невысокому склону и, рыча, хотела было броситься в кусты.
– Вот тут ты права, моя хорошая, – сказал Лавердюр, сдерживая собаку. – Правильно. Этот олень из отъемного островка не выходит. Жалко – такой хороший олень, судя по следу, а поохотиться на него мы не сможем, – добавил он, злобно взглянув на Габриэля. Какое-то время он помолчал, затем, покачав головой, добавил совсем тихо: – Как подумаю, что мы никогда уже больше не увидим госпожу графиню на лошади…
У Габриэля вдруг свело живот, и он согнулся, словно собираясь дать волю рвоте. Однако он лишь сильно рыгнул, и в холодном воздухе запахло шампанским.
– Ну вот, значит, господин граф потихоньку приходит в себя? Господин граф знает, что ему надо будет говорить? – спросил Лавердюр.
Габриэль выпрямился, глубоко вобрал в себя воздух, огляделся и остановил глаза на Лавердюре.
– Да… да… кажется, да… – сказал он.
– Так вот, пусть господин граф хорошенько меня слушает, – продолжал доезжачий, поймав жестким взглядом своих серых глаз взгляд Габриэля. – Он вернулся из Парижа, верно, что-нибудь без четверти шесть. Господин граф был навеселе – он провел ночь в компании, но это меня не касается. Месье приехал на машине, как раз когда я шел с Сигареткой в лес. Господин граф сказал: «А-а, послушайте-ка, Лавердюр, подождите меня, я пойду в лес с вами». А я ответил: «Вот всегда вы так, господин граф, – ничего вас не берет. А мне это нравится: ведь как приятно, когда идешь с ищейкой и хозяин идет вместе с тобой». Нишкни, Сигаретка! Нишкни!
Мужчины стояли друг против друга – высокий Габриэль, слегка нагнув голову в мягкой шляпе, и Лавердюр, приземистый, подняв к нему лицо, с трудом сдерживая нетерпеливо рвущую поводок собаку.
– Осмелюсь сказать господину графу, что ему хорошо бы вытереть ухо. А то сегодня о нем могут нехорошо подумать.
Габриэль нашел в кармане пальто носовой платок, вытер следы губной помады, оставленные девицей, посмотрел на платок. «А куда девалась девчонка?» – подумал он. И вдруг увидел открывающуюся дверцу машины, вытолкнутое из нее тело. Может, он и ее тоже убил? Ничего он не помнил, кроме двух глаз, так близко посаженных, как это бывает только во сне. И однако же эти следы на платке…
– Ну вот, значит, господин граф, – продолжал Лавердюр, – велел мне вылить воду из радиатора, пока он переодевается. Месье не захотел будить госпожу графиню – я, конечно, этого не знаю, но думаю, что… господин граф не стал будить госпожу графиню, – повторил Лавердюр громче и отчетливее, дожидаясь, чтобы Габриэль кивком подтвердил, что услышал, – он быстро оделся, почти тут же сошел вниз, и мы обошли замок сзади. Вот и все, больше ничего и не было… А если господина графа снова и снова попросят вспомнить, не слышал ли он чего позади себя, когда шел по парку, он подумает, подумает, да, может, и вспомнит, что сказал мне: «Постойте, что это там за шум, Лавердюр?»; а я ему ответил: «Да, видно, сухой ствол упал в пруд…» Но господин граф скажет это, только если его спросят… А после мы с ним пошли к Сгоревшему дубу – мы ведь договаривались с господином графом накануне, что я туда пойду, поскольку мне сказали, что видели там оленей; мы пошли по следу и отогнали одного от стада внутрь большого отъемного островка…
Лавердюр присел, разгреб ветки на земле, сунул палец в дыру величиной с монету в сто су и глубиной в несколько сантиметров, прикрытую холодными мертвыми листьями.
– Дело ясное – олень четырехгодовалый, – сказал он. – И копыта что надо… Господин граф может сам убедиться… А вот и следы самки… Любопытнее всего, что тут и другие звери проходили. Вот этот большой след, треугольный, – месье видит: две шпоры сзади (и Лавердюр снова принялся разгребать листья) – так это трехгодовалый кабан, килограммов на сто двадцать – сто тридцать, он тоже тут ночью проходил – след-то совсем свежий. А Сигаретка, взгляните, даже и не берет этого следа. Сразу видно – дочка Валянсея…
Инстинкт охотника и любовь к своему делу оказались сильнее всего остального, и доезжачий увлекся: он продолжал говорить и без конца сыпал выражениями, на протяжении столетий так неразрывно вросшими в язык, что все уже давно забыли, откуда они пошли: идти вдоль по веткам, упредить зверя, навести на ложный след, снова поднять зверя, взять обратный след…
– Сегодня-то бояться нечего, работенки мы ему много не дадим, – продолжал он, – но мне все же хоть бы одним глазком посмотреть, какой он, этот олень-то.
И он углубился в чащу, осторожно следуя зигзагообразным путем, проделанным собакой, а Габриэль шел за ними следом, не обращая внимания на то, как голые ветки порой хлестали его по лицу.
– Ш-ш! – шепотом произнес Лавердюр, обращаясь к Габриэлю, тяжело ступавшему по листве.
Вдруг Лавердюр пригнулся, дернул к себе Сигаретку, повторяя:
– Нишкни, подруга, нишкни! – и шепотом произнес: – Господин граф их видит? Вон там…
И пальцем указал видневшихся неподалеку сквозь прутняк оленя и трех самок, чьи рыжеватые силуэты выделялись на фоне тонких белых берез. Животные сгибали шею, потом выпрямлялись, держа в зубах листик или травинку, которую они нехотя пережевывали, продвигались на несколько шагов вперед, грациозно переставляя длинные стройные ноги, а перед узкой изящной мордой каждого клубились молочно-белые облачка пара. Одна самочка была намного меньше остальных.
Габриэль схватился за голову.
– Лавердюр, что же все-таки произошло? Что я наделал? – воскликнул он.
При звуке его голоса самки подскочили, и в их красивых продолговатых глазах близоруких принцесс появился ужас; олень повернул к людям рога и трепещущие ноздри, и стая удалилась легким галопом – самки, подталкивая друг друга боками, и самец позади.
– Господин граф не должен больше об этом думать. Господин граф должен все забыть, точно ничего и не было, – сказал Лавердюр, – и помнить только то, что я ему сказал… Теперь можно и вернуться. Время уже подходящее…
Габриэлю казалось, что его мысль действует одновременно в разных планах и на разной глубине.
«Точно ничего и не было…» На одном из уровней сознания Габриэля разрозненные воспоминания этой страшной ночи ничуть не отличались от тяжелого сна или кошмара, навеянного опьянением. Вот сейчас Габриэля тряхнут за плечо, крикнут: «Да ну, проснись же наконец!» – и все будет как раньше, и Габриэль будет по-прежнему ревновать к Франсуа и мучить Жаклин.
Но на другом уровне гнездились обрывки реальных воспоминаний: помада на носовом платке, доказывавшая существование девицы в ресторане; другие мелочи, которые придают воспоминаниям реальность, совершенность, невосполнимость. Габриэль вспомнил про письмо – ему казалось, что он писал его, или он действительно его написал? Только бы не нашли это письмо!
И был в нем еще один уровень, где Габриэль пытался изобразить потрясение, отчаяние, отвечал на расспросы полиции, где его арестовывали за убийство…
– А копыто – что вы с ним сделали? – сухо спросил Габриэль.
– Я повесил его в машине на прежнее место, господин граф.
– А, ну отлично, – сказал Габриэль, словно доезжачий лишь выполнил то, что входило в его обязанности.
И тут до Габриэля дошло, что этот человек, этот слуга, пытается спасти ему честь и жизнь.
– Спасибо, Лавердюр, – произнес он тихо.
– О, господин граф не должен меня благодарить. Я это сделал… даже и не скажу почему… А потом, и неизвестно ведь, сойдет ли все.
И когда они выходили из чащи, доезжачий, по обыкновению, сломал веточку на краю дороги, чтобы отметить путь, которым шел олень.
Габриэль и Лавердюр шли уже назад, к Моглеву, когда Карл Великий, псарь, задыхаясь, примчался к ним со всех ног.
– Господин граф, господин граф, – воскликнул он, – беда!
– Что случилось? – спросил Габриэль.
– Госпожа графиня…
– Так, ну что – «госпожа графиня»?
– Она упала со своего балкона. Она… убилась она.
Габриэль издал такой рев, что Лавердюр пришел в восторг… «Ну, все в порядке, – подумал доезжачий, – этого человека нелегко сбить».
Габриэль бросился было бежать, затем метров через сто перешел на быструю ходьбу: Карл Великий во время пути трижды повторил то немногое, что знал.
– В общем, решили, что господин граф, верно, пошел в лес с Лавердюром – так оно и вышло, – заключил он, – и вот меня послали предупредить. Да только господин граф ушел дальше, чем думали.
Перед замком сбились в комок возбужденные, испуганные люди: под лоджией стояла группка слуг и крестьян, глядя то на упавшие камни, то на зияющий провал на фасаде наверху.
– С виду-то оно прочное, – шептались в толпе, – а на самом деле все старое, прогнившее, и вон оно как потом получается…
– А кто же ее нашел-то?
– Да вроде Флоран. И она была в ночной рубашке…
– Бедная женщина!
– А ну, не стойте тут, – сказал Лавердюр, обращаясь к толпе. – На что это похоже – глазеть тут, когда у хозяев такая беда.
И он стал переворачивать осыпавшиеся камни, чтобы удостовериться, не осталось ли на них следа от его сапога.
А Габриэль исчез в замке.
Тело Жаклин было отдано в руки госпожи Флоран и госпожи Лавердюр. Обе женщины с глазами, полными слез, уже приступили, с ловкостью опытных в этом деле крестьянок, к омовению тела и успели превратить спальню в освещенный катафалк.
– Госпожа графиня-то как раз и причастилась вчера, перед Рождеством, – прошептала госпожа Лавердюр, шмыгая носом, – так что никаких грехов она с собой не унесла.
В комнате уже столько ходили – от двери к кровати и от кровати к лоджии, – что на паркете невозможно было обнаружить какие-либо следы.
Труднее всего оказалось Габриэлю держаться как надо не перед трупом, а перед старой госпожой де Ла Моннери. Он решил закрыть голову руками и разрыдаться. А коль скоро нервы у него были на пределе, это вовсе не было ему трудно и даже пошло на пользу.
– Как подумаю… как подумаю, что она была со мной так несчастна… – пробормотал он и сбежал к себе в комнату.
Госпожа де Ла Моннери, желая понаблюдать за Габриэлем, постаралась не плакать, лицо ее было уже настолько обезображено возрастом и одиночеством, что горе ничего не могло тут добавить.
А Лавердюр пошел к маркизу. Этого последнего известили о случившемся с излишними предосторожностями…
– Ах, бедняжка! – только и сказал маркиз.
Когда вошел Лавердюр, маркиз препирался с Флораном.
– Но господин маркиз не может надевать сегодня желтый охотничий костюм, – говорил камердинер. – Господин маркиз ведь в глубоком трауре.
– Ну так наденьте на меня черный костюм! – воскликнул слепец. – Что вы можете доложить, Лавердюр?
– Так вот, господин маркиз, в отъемном островке у нас большой олень и там же еще трехгодовалый кабан… Но из-за смерти племянницы господина маркиза… само собой…
Слепец с минуту молчал.
– Ну и что? Вполне возможно поохотиться на трехгодовалого. Кабан же черный! – воскликнул он. – И это никого не шокирует. Ну, идите на зверя, Лавердюр, можно даже и без хозяев. Не то собаки выйдут из формы… А вечером вы мне расскажете.
Лавердюр только вышел от маркиза, как ему сказали, что его просит госпожа де Ла Моннери.
– Лавердюр, это мой зять убил мою дочь? – спросила старая дама с черной бархоткой на дряблой шее.
– Но, госпожа графиня…
– Бросьте, бросьте, не рассказывайте мне сказок, мой друг! Женщина не выйдет среди зимы на балкон в ночной рубашке. Она накинет халат. Он же вернулся пьяный?.. Вы один это знаете. Что же, если вы не хотите мне отвечать… Представьте себе, сегодня утром я слышала шум, вот так-то! Вас это удивляет… Так вот, я потребую полицейского расследования. И тогда станет ясно, зять мой ее убил или кто-то другой… или же никто.
– Видите ли, госпожа графиня…
– Говорите громче!
Тут Лавердюр впервые потерял терпение.
– Мне, может, надо сказать госпоже графине что-то с глазу на глаз, – громко произнес он, – но раз госпожа графиня при всем моем уважении слышит только ночью, а днем – нет, так мне, верно, лучше взять городской барабан да и прокричать то, что я хочу сказать, на главной площади.
– А, ну да… хорошо, – досадливо проговорила госпожа де Ла Моннери. – Я готова вас слушать, где захотите.
– Если бы мадам соблаговолила пройти на псарню, когда ей заблагорассудится… будто ей хочется поглядеть на любимых собак своей дочери… – сказал Лавердюр снова вежливым и уважительным тоном.
И госпожа де Ла Моннери вскоре пришла на псарню. Лавердюр пропустил старую даму внутрь ограды и бросил собакам несколько кусков мяса со шкуркой, чтобы они принялись рычать и драться.
– Ох, какая вонь! – произнесла госпожа де Ла Моннери.
– Что поделаешь, да! – извиняющимся тоном произнес Лавердюр.
И там, среди шума, поднятого шестьюдесятью собачьими глотками, – а надо сказать, что старая дама лучше слышала, когда вокруг стоял шум, – Лавердюр рассказал ей то, что знал, не описывая, однако, как все произошло и даже не упомянув про оленью ногу.
– Он ведь был пьяный и ударил ее, как бывает, когда люди спорят, – пояснил Лавердюр. – Конечно же, он не хотел ее убивать. Просто не повезло – там оказалась колонка кровати… – И он тут же закричал: «Назад!» – замахнувшись палкой и отгоняя крупных, в рыжих пятнах, псов, чтобы они не написали на ноги госпоже де Ла Моннери. – Ну вот, теперь госпожа графиня все знает, – заключил он. – Ей и решать. Я поступил так с ходу, сам не знаю почему… чтобы не получилось скандала в Моглеве… ну и потом, еще из-за господина Жан-Ноэля и мадемуазель Мари-Анж, которые и так уже хлебнули горя.
Госпожа де Ла Моннери задумалась, представляя себе, к чему все это приведет: вскрытие, жандармы, инспектора уголовной полиции, репортеры, фотографии в газетах и ее семья, отданная на растерзание обывательскому любопытству. «Дочь поэта Жана де Ла Моннери…», «Следствие ревности и пьянства – драма в историческом замке…», «Доезжачий прикрыл преступление…» И покажут Габриэля между двумя полицейскими. А потом все снова всплывет, когда начнется процесс, на котором она, графиня де Ла Моннери, должна будет выступать в качестве гражданского истца… Да, это ляжет пятном на всю нашу среду…
– Вы были правы, Лавердюр, – сказала она. – Лучше обойти все молчанием, чем устраивать скандал. И если господин Де Воос виновен, что же, пусть он не понесет наказания в этом мире – он будет наказан в другом… В любом случае вы всем нам оказали услугу… Вы поступили, как человек гораздо более высокого круга.
– Госпожа графиня слишком добры, – сказал доезжачий, склоняя голову. – Да, еще одно, – добавил он: – Господин маркиз хочет, чтобы охота все же состоялась…
– И речи быть не может, – отрезала госпожа де Ла Моннери.
Весь день ушел на формальности и на прием первых визитеров, явившихся выразить соболезнование. Раз двадцать Габриэль, ссутулясь, глядя перед собой отсутствующим взглядом, повторял:
– Ничего не понимаю… видимо, она услышала, как мы с Лавердюром уходили… но выйти на балкон, чтобы меня позвать, право, не знаю… а я ведь боялся ее разбудить.
Он столько раз это говорил, что со всею ясностью уже мог себе представить, как он спокойно идет по парку с доезжачим, а Жаклин, отворив дверь лоджии, пытается разглядеть их в темноте и вдруг летит вниз, когда они уже слишком далеко, чтобы услышать звук ее падения.
Госпожа ван Хеерен приехала одна. Муж вернулся из Парижа поездом «немного больной», пояснила она. Габриэль постарался пробыть с ней не более секунды.
Большую помощь Габриэлю оказал Жилон: он поддерживал вместо Габриэля разговор, вмешивался – на сей раз вполне разумно – в то, что его не касалось. И хотя приехал он лишь в половине одиннадцатого, притом, как всегда, в охотничьем костюме, если послушать его, создавалось впечатление, что это он обнаружил тело Жаклин.
А маркиз, выслушивая людей, заходивших к нему выразить свое горе, говорил в ответ:
– Взяли все-таки его?
Наконец вечером госпожа де Ла Моннери и Габриэль оказались лицом к лицу, одни. Это была мучительная минута, и госпожа де Ла Моннери первой нашла выход.
– Габриэль, – сказала она, – я не знаю и не хочу когда-либо узнать, есть ли у вас на совести тяжесть. Единственное, о чем я вас прошу: если вам понадобится исповедаться, сделайте это в городе, где никого из нас не знают, и даже, если можно, за границей.
Яснее ясного – она диктовала ему, как себя вести.
– Но только не делайте этого немедленно, – добавила она, – чтобы не было впечатления бегства. Вам нужно будет какое-то время заменять мою дочь в управлении Моглевом и даже – это ваш долг – в воспитании детей. Не беспокойтесь, я буду за вами приглядывать.
После чего они вошли в малую гостиную. Слепец сидел возле камина с грифонами, перед ним стоял «охотничий ящик», и руки его скользили по маленьким зеленым холмикам.
Лавердюр стоял перед ним в той же одежде, что и утром, держа в руках фуражку, и говорил:
– Ну вот, значит, кабан мой пролетает всю аллею Дам…
Он описывал охоту предыдущего сезона, о которой старец уже забыл.
Габриэля охватил ужас, когда он увидел, как в кресло, стоявшее напротив маркиза, вместо Жаклин опустилась госпожа де Ла Моннери.
В случаях семейного траура до смерти матери Мари-Анж и Жан-Ноэля одевали в приглушенные тона: белое платье с лиловым поясом или фиолетовое платье с белым поясом; матроска или костюм ученика Итона, к которым старались подобрать брюки потемнее, чтобы костюм мог подойти и для первого причастия, и для похорон… На этот раз дети в течение полугода были облачены во все черное.
Мари-Анж помнила, как огорчилась, когда в день похорон ее деда-поэта – а Мари-Анж было тогда шесть лет – ей принесли белое платье вместо платья, какие носят «дамы», которое ей так хотелось надеть. Радости такого рода всегда приходят слишком поздно.
А сейчас Мари-Анж была в отчаянии от того, что ей приходилось надевать унылые бумажные чулки, тусклые, как сажа, да еще пристегивать их каждое утро серыми резинками.
– Если бы они хоть были шелковые! – говорила она Жан-Ноэлю. – Ведь не одежда же доказывает горе.
Настало время больших каникул. Госпожа де Ла Моннери вместе с внуками отбыла в Динар. И дети вновь получили право ходить с голыми икрами: Мари-Анж – в белой пикейной юбочке, Жан-Ноэль – в рубашке с открытым воротом.
Каждый день перед обедом госпожа де Ла Моннери, опираясь на большой зонт, совершала прогулку в сопровождении Жан-Ноэля.
А в это время Мари-Анж, из рук вон плохо учившаяся весь этот год («Конечно, у нее есть оправдания, но все-таки это еще не причина», – говорила госпожа де Ла Моннери), сидела в отеле, выполняя задания.
Любой другой ребенок на месте Жан-Ноэля пришел бы в отчаяние или чувствовал бы себя оскорбленным тем, что ему надо ежедневно сопровождать капризную, властную и глухую старуху. А Жан-Ноэль испытывал даже какое-то мрачное наслаждение, медленно шагая рядом с бабушкой, неся за ней пакет с воздушными бисквитами, которые она покупала в одном магазине, и встречая вместе с ней многочисленных стариков и старух, которых ему никогда не надоедало рассматривать со всеми их морщинами, маниями и нарядами. Собственно, это ведь были такие же люди – только умытые, образованные и хорошо одетые, – как и нищие, которые выстраивались в свое время возле особняка Шудлеров и которым прадедушка Зигфрид раздавал милостыню.
Созерцание старости доставляло Жан-Ноэлю удовольствие, никогда не надоедая ему и удовлетворяя его потребность в жестокости и одновременно в нежности. Однако при этом он вовсе не принадлежал к числу маменькиных сынков, зажатых и скрытных, которые держатся за юбки старших. Жан-Ноэль был уже почти юношей, долговязым и, пожалуй, слишком бледным, с ясным светлым лицом, какие бывают у блондинов, с большим природным изяществом, открытым и в то же время слегка таинственным взглядом.
Старость, трагедии и смерть окружали его с колыбели, под их знаком прошло его детство, и это не могло не оставить на нем болезненного отпечатка. Неожиданная весть о смерти матери, долетевшая до него полгода назад, когда он был в горном шале, вызвала потоки слез и одновременно завершила его воспитание горем.
Госпожа де Ла Моннери имела обыкновение в конце прогулки садиться на пляже на брезентовый стул и вместе с Жан-Ноэлем разглядывать проходивших по настилу женщин.
– Тебе пятнадцать лет, – говорила она, – и коль скоро родители твои умерли, нужно, чтобы кто-то формировал твой вкус. Скажем, вот эта – как ты ее находишь?.. Она тебе не нравится?.. Ну, так ты не прав: она, правда, немного полновата, но умеет держаться. У меня ведь было очень красивое тело, так что я знаю, о чем говорю.
Легкие платья, облегающие купальные костюмы, виднеющиеся над сандалиями щиколотки, покачивание золотистых от загара бедер, обнаженные подмышки, форма груди – все было объектом изучения. Госпожа де Ла Моннери не замечала того, как иной раз смущался мальчик, и того, что женщины и некоторые мужчины уже заглядывались на него, не отдавала она себе отчета и в силе своего голоса.
– А вот эта, смотрите, бабушка, она мне очень нравится, – время от времени шепотом говорил Жан-Ноэль.
– Бедный мальчик, – ответствовала госпожа де Ла Моннери, – у тебя решительно нет никакого вкуса, и я все время думаю, зачем я так стараюсь. Ты обращаешь внимание на одних кокоток!
Если до обеда госпожа де Ла Моннери тиранила внуков, то во второй половине дня она играла в бридж, всецело полагаясь на воспитание, полученное ими утром.
Жан-Ноэль завязал на пляже дружбу с англичанами, которые были намного старше него. Одна из них, бледная блондинка, научила его курить, выпивать в шесть часов вечера стаканчик виски и молча лежать рядом с ней под тентом, в то время как она машинально рисовала на песке – начиналось все неизменно с мужского члена и кончалось букетом цветов. Жан-Ноэль слегка краснел, а блондинка, прикрыв глаза, наблюдала за ним, и дыхание ее учащалось. И каждый день Жан-Ноэль выпивал стаканчик виски, смотрел, как рисовала блондинка, словно это был наркотик, необходимый ему, чтобы наполнить видениями ночь. Он разглядывал красноватую сыпь, появлявшуюся порой непонятно почему на щеках его бледной соседки; он представлял себе, «какой она станет в старости»; он ждал со слегка бьющимся сердцем, чтобы она осмелела или предложила; она не смелела и не предлагала ни разу. Должно быть, ей было вполне достаточно рисовать на песке и чувствовать рядом молодое тело.
Были там еще и двое мужчин лет тридцати, очень красивых, очень стройных, очень сдержанных в жестах и выражении лица, которые исподтишка наблюдали за происходящим, и в особенности наблюдали за Жан-Ноэлем; именно с ними он ходил плавать, когда блондинке надоедало чертить на песке и она обращала свой бледный живот к солнцу.
А Мари-Анж царила среди нескольких мальчишек своего возраста. Она трясла головой, забрасывая волосы назад, отдавала приказы, слишком громко смеялась, любила, когда ее переворачивали в воде или после бега наперегонки кто-нибудь хватал ее за талию.
Брат и сестра часто выговаривали друг другу за недостойное поведение, укоряли, и укоры эти отдавали ревностью. Однако перед бабушкой они держались как союзники.
Однажды вечером они оказались одни на пляже: их обычные друзья уже ушли, и Мари-Анж, лежавшая рядом с Жан-Ноэлем, принялась кончиками пальцев чертить что-то по песку.
– Я, в общем-то, не буду счастлива в жизни, – пробормотала она.
А Жан-Ноэля охватило то же смятение, какое он порой чувствовал, лежа рядом с бледной англичанкой. Бретелька купального костюма соскользнула с плеча Мари-Анж, обнажив почти полностью грудь.
– Тебе на это плевать, ты – мальчишка, – добавила она, окидывая взглядом тело брата.
В одно мгновение оба почувствовали друг к другу что-то постыдное и намеренно не стали от этого чувства избавляться. Мари-Анж захватила пригоршню песку и стала сыпать ему на шею. Он укусил на лету ее руку. Это послужило как бы сигналом, чтобы с вызовом посмотреть другому в глаза, сказать «идиот!», ринуться друг на друга, покатиться по песку и, смеясь, взметая фонтаны песка, под предлогом борьбы, с взаимного согласия щупать, хватать, сжимать взволнованной рукой те места тела, которые им так хотелось познать и погладить у других мужчин и женщин.
Для запоздалых купальщиков они выглядели двумя детьми, разыгравшимися на пляже…
Тот, кто воскликнул первым: «Ты мне делаешь больно!» – прервал эту игру жадного познания. Они, отдуваясь, приподнялись с земли. Они почувствовали лишь намек, преддверие физического наслаждения, даже не посмев себе в этом сознаться, ибо то, что они были братом и сестрой, воздвигало еще пока преграду их воображению.
Однако возвращались они молча, держались за руки, неся в себе тайную радость и разделенное чувство стыда, еще больше их связывавшее и побуждавшее с бо́льшим уважением относиться друг к другу.
Габриэль Де Воос со смертью Жаклин окончательно перестал пить. Можно было подумать, что его мучает раскаяние, – на самом же деле это был просто страх во хмелю потерять над собой контроль и признаться.
Но жил он в каком-то оцепенении, опьяняя себя, как наркотиком, воспоминанием, гнездившимся в глубинах сознания.
Он вдруг состарился; плечи его ссутулились.
– Как же он, бедный, должно быть, страдает, – говорили о нем. – И ничем его не отвлечешь.
Габриэль почти безвыездно жил в Моглеве и разумно управлял поместьем.
Он охотился, не отлипая от собак, почти ни с кем не разговаривая и стараясь оторваться от нескольких мелкопоместных длинноносых соседей, которые по-прежнему входили в команду.
Ван Хеерен, сраженный приступом подагры, сидел в ватных сапогах и не мог больше охотиться.
Мчась галопом по какой-нибудь аллее, Габриэль часто поворачивал голову, словно ожидая увидеть рядом лошадь Жаклин.
Сгоревший дуб, аллея Дам, Господский круг, дорога у пруда Фонгрель, Волчья яма… сколько было мест, где Габриэль невольно обращался к первому доезжачему:
– Вы помните, Лавердюр, ту охоту… с госпожой графиней…
А потом настал день, когда Габриэль стал говорить:
– Вы ведь охотились и с бароном Франсуа…
– Еще бы, господин граф…
И у Лавердюра сжало горло, хотя он и не мог определить, какую странную форму приняло горе в душе Габриэля.
Жилон был единственным, с кем Габриэль с удовольствием встречался более или менее регулярно. Почти каждый вечер они ужинали вместе либо в Моглеве, либо в Монпрели.
– Понимаешь, старина Габриэль, – сказал ему однажды бывший драгун, – ты, конечно, выжди какое-то время, а потом… в один прекрасный день… женись. А то станешь, как я, старой колымагой с большим животом, убогой жизнью и пустотой в голове.
– О нет, нет! – отвечал ему Габриэль. – Ведь на сей раз я буду вдовцом… А я не хочу, чтобы кто-то из-за меня страдал.
Габриэль поставил на каминную доску в своей комнате своеобразный алтарь с фотографиями Жаклин и Франсуа – он украшал их цветами и в молчаливом созерцании проводил перед ними долгие часы.
Случалось, глядя на выцветшую фотографию Франсуа Шудлера в каске 1914 года с лошадиным хвостом, Габриэль шептал, и глаза его увлажнялись:
– Может, вы все-таки простите меня… может, все-таки поймете… может, примете меня в свое общество там, наверху, даже если она этого не захочет…
Однажды ночью, так, что никто и не заметил, умер Урбен де Ла Моннери. Тонкие, как паутина, нити, привязывавшие его к жизни, разорвались во сне.
Склеп часовни Моглева был заполнен. Пришлось передвинуть надгробия и поработать каменщикам, чтобы можно было поставить там гроб маркиза. Габриэль, в черном пальто, присутствовал при работах.
Лак на гробе Жаклин оставался еще совсем нетронутым. Габриэль на несколько секунд приложился к нему лбом. «Франсуа лежит на Пер-Лашез, – подумал он, – она – здесь, где буду я?»
И громко обратился к рабочим.
– Ну, приступайте же, – сказал он.
Роскошный гроб Жана де Ла Моннери уже треснул, наполовину сгнил и рассыпался, так что стал виден цинковый саркофаг, в котором спал вечным сном великий представитель семейства, закованный в металл, отделявший его от всей родни.
На других плитах виднелись другие полуистлевшие дубовые доски, и сквозь них зияли пустые лица и белели решетки груди. А на самых нижних уровнях склепа уже исчезли всякие следы дерева и массивные изукрашенные рукоятки, таблички с выгравированными именами, серебряные распятия лежали вперемешку со скелетами.
У одной старой дамы на больших берцовых костях удивительным образом сохранились нетронутыми черные чулки, которые рассыпались в прах при малейшем к ним прикосновении.
Было там довольно много и тонких детских косточек, которые собрали вместе, так же как и маленькие черепа, и положили, высвобождая место, на самое дно склепа. Притом тут покоились усопшие лишь за последние сто с небольшим лет, ибо до Революции всех владельцев Моглева хоронили в деревенской церкви.
Наконец отчищенные, заново укрепленные плиты были установлены в надлежащем порядке, и в обители мертвых воцарилась симметрия. А со дна захоронения поднимался едва уловимый незнакомый пресный запах, исходивший от останков лежавших там тел.
Затем Габриэль незамедлительно занялся вопросами наследования: казалось, они должны были решиться без всяких осложнений, простой передачей всего имущества детям Жаклин.
Но тут на сцену вышли два персонажа, лет около пятидесяти, желчные, с сухими ручками и нездоровым цветом лица, и выдвинули свои требования на том основании, что они – сын и дочь госпожи де Бондюмон и их мать вышла замуж за маркиза на условиях общности имущества.
– Как? – обратился Габриэль к Жилону, узнав эту новость. – Ты сам руководил бракосочетанием старцев, ты сам приехал за стариком Урбеном, и тебе даже не пришла в голову мысль составить брачный контракт на условиях разделения имущества? Но ты же знал, что эти люди существуют?
Между друзьями разразилась жуткая сцена, в результате которой они рассорились вконец.
«Вот! Вот какую я получил благодарность», – возвращаясь в Монпрели, повторял Жилон, обезумевший от ярости прежде всего на самого себя.
Пришлось обратиться к правосудию, и все тяготы процесса в качестве опекуна детей Жаклин взял на себя Габриэль. Он доказывал недействительность брака, заключенного не по форме, по принуждению одного из брачующихся, при полной безответственности лиц, составлявших брачный контракт.
А наследники Бондюмон в качестве довода выдвигали моральный ущерб, нанесенный длительной связью с маркизом их матери и даже им самим; они настаивали на том, что отсутствие раздельного контракта вполне определенно доказывало желание маркиза «исправить дело».
Габриэль мог представить лишь завещание десятилетней давности, где Урбен указывал на братьев как на законных наследников, однако он умер последним.
Его противники в свою очередь утверждали, что, являясь прямыми потомками женщины, бывшей в течение тридцати лет подругой усопшего, они имеют не меньше моральных прав, чем племянники во втором колене.
Процесс стоил слишком дорого, и Габриэль его проиграл. Наследство поделили пополам. Суд все же постановил, что замок Моглев со всем, что в нем находится, должен отойти к наследникам со стороны Ла Моннери. Морально это могло принести удовлетворение, но с финансовой точки зрения грозило катастрофой. Примерная стоимость Моглева, парка и богатств, находившихся внутри замка, превосходила оценку состояния по бумагам. Поэтому приходилось отдавать Бондюмонам еще часть лесных угодий и земель и продать немалое число ферм, чтобы покрыть судебные издержки и заплатить за введение в права наследства.
Таким образом, на глазах Жан-Ноэля и Мари-Анж, родившихся самыми богатыми младенцами в Париже, едва они достигли порога отрочества, отвалился второй кусок колоссального состояния, на который они могли рассчитывать. Оставшись сиротами после в равной мере таинственного и трагического исчезновения отца и матери, они должны были встретиться со всеми сложностями жизни одни, неся в себе груз привычек и притязаний богатых людей и получив в наследство лишь громадную полусредневековую-полуренессансную крепость, где они не имели возможности поддерживать в порядке даже крышу. Они вошли в тот возраст, когда были уже способны трезво оценить свое положение, и стали смотреть на окружавших их людей, да и на мир вообще, достаточно суровыми глазами.
Ко всему прочему, им предстояло в четвертый раз менять опекуна.
Как-то раз, в октябре 1932 года, Габриэль явился к старой госпоже де Ла Моннери и представил ей свои счета в идеальном порядке, с аккуратными полями и линиями, прочерченными красными чернилами.
Он решил снова записаться в армию и обратился за помощью к Сильвене, с тем чтобы через посредство Симона Лашома выбрать полк где-нибудь на юге Алжира.
Госпожа де Ла Моннери была удивлена и даже немного расстроена, узнав о предстоящем отъезде Габриэля: за последние месяцы она привыкла к зятю и обнаружила в нем немало достоинств. «Жаль, – думала она, – что они не сошлись с моей дочерью».
Вместо Габриэля опекунство передали тете Изабелле.
Моглев закрыли, поселив там лишь Флорана с женой, чтобы проветривать комнаты.
Балюстраду лоджии так и не починили. Только сложили в сторонке сломанные камни.
Было условлено, что Лавердюр оставит нескольких собак и две лошади, чтобы сохранить вроде бы под началом майора Жилона, с которым Габриэль все же помирился, некое ядро команды… «Господин Жан-Ноэль решит, как с этим быть, когда войдет в свои года…»
Кроме того, за Лавердюром числились все обязанности управляющего и доверенного лица.
Габриэль, получив назначение, в последний раз приехал в Моглев, достал из сундучка свой великолепный красный мундир, украшенный рядами орденов, и синюю фуражку спаги, превосходно сохранившиеся под слоем нафталина. Мундир сидел слегка в обтяжку, и Габриэлю показалось, что даже голова у него растолстела – так жала фуражка.
Затем он собрал кое-какие принадлежавшие лично ему вещи, добавив к ним несколько реликвий Жаклин и Франсуа.
Наступил вечер.
В сопровождении Флорана, освещавшего путь слабо мерцающей лампой, Габриэль в последний раз прошел по громадным комнатам, населенным многочисленными владельцами замка, будто заживо вмурованными в стены; над ним чуть поблескивали крохотными золотыми розетками, похожими на звезды в ночной небесной тверди, далекие потолки; его обступали незримые рыцари в латах, державшие в руках пропыленные флаги; камины вздымали во тьме гигантские каменные зевы, будто заглатывая что-то в глубине, под землей.
Во дворе Габриэля ждала машина, последняя машина, подаренная ему Жаклин, единственное, что осталось у него от их брака и что он продаст перед отплытием судна.
– Удачи вам, господин граф… то есть… господин капитан, – произнес Лавердюр, чуть отвернувшись, чтобы скрыть волнение.
– Спасибо, Лавердюр… я напишу вам, – ответил Габриэль, с чувством пожав руку старику доезжачему.
И жизнь его затерялась в песках пустыни, подобно мелеющей реке.
1
Французская академия – объединение видных представителей национальной культуры, науки и политических деятелей Франции; основана в 1635 г. Имеет постоянный состав – «40 бессмертных». Ее членами были Ришелье, Расин, Корнель, Д’Аламбер, Вольтер, Гюго, Франс. Основная задача – совершенствование французского языка, издание словаря французского языка.
2
Вид легкой кавалерии во французских колониальных войсках в XIX–XX веках, действовавших в Северной Африке.
3
Ощущение (англ.).
4
Эпиналь – административный центр департамента Вогезы на северо-востоке Франции.
5
Гинмер Жорж-Мари (1894–1917) – французский летчик. За ним числилось 54 выигранных боя; был сбит, командуя знаменитой эскадрильей «Журавли». Тюренн – Анри де ла Тур д’Овернь (1611–1675) – маршал, крупный французский полководец, участник Тридцатилетней войны, Фронды и первых войн Людовика XIV.
6
Виноградная водка.
7
Нинон де Ланкло (1616–1706) – французская дама, известная своей красотой, образованностью и свободным образом жизни (в числе ее любовников были Колиньи, Великий Конде, маркиз д’Эстре). В салоне де Ланкло собиралось избранное общество: дамы ее профессии, поклонники Эпикура, читательницы Монтеня. Говорили, что она не обошла своей благосклонностью юного Вольтера, связав таким образом скептицизм XVII века с философской мыслью века XVIII.
8
Марианна – имя, данное Республике в память о тайном республиканском обществе, образованном для свержения Второй империи.
9
Директория – период Великой Французской революции (1795– 1799).
10
Диана де Пуатье (1499–1560) – герцогиня де Валентинуа. Овдовев в 32 года, стала любовницей будущего короля Генриха II, который был на девятнадцать лет моложе ее. После смерти Франциска I она, имея неограниченное влияние на короля, вынуждала его вести жестокую борьбу с протестантами. Она покровительствовала искусствам. Генрих II построил для нее замок Ане. Госпожа Тальен (1773–1835) – дочь испанского банкира, она очень рано вышла замуж за Давида де Фонтеней, советника парламента Бордо, с которым разошлась в 1793 году. Несмотря на некоторые симпатии, питаемые ею вначале к Революции, она, опасаясь дальнейшего ужесточения террора, попыталась бежать в Испанию, но была арестована и посажена в тюрьму в Бордо, где сделалась сначала любовницей, а потом и женой одного из членов Комитета национальной безопасности якобинца Тальена. Ее называли Нотр-Дам Термидора; при Конвенте и особенно при Директории она стала одной из самых знаменитых женщин, вдохновительницей возврата к античности в моде. Разведясь с Тальеном в 1802 году, она вскоре вышла замуж за графа де Карамана, будущего принца де Шимей.
11
Перевод А. Прокопьева.
12
Папа (англ.).
13
Жюль Леметр (1853–1914) – французский театральный и литературный критик, писатель, драматург. Член Французской академии.
14
Донатор – в искусстве средневековья и Возрождения, а иногда и позже изображение строителя храма (с моделью здания в руках) или заказчика произведения живописи (реже скульптуры) и декоративно-прикладного искусства. Донатор обычно стоит перед Христом и Богоматерью или святыми.
15
Католическая молитва.
16
Обнесенное оградой место для маклеров.
17
Годовой платеж по займам, осуществляемый в рассрочку.
18
Балю, кардинал Жан (1421–1491) – духовник, затем министр Людовика XI. В 1488–1489 гг. был посажен этим королем в тюрьму.
19
Лотарь III (1075–1137) – германский король (с 1125 г.), император Священной Римской империи (с 1133 г.). Карл V (1500–1558) – испанский король (1516–1556) и римско-германский император (1519– 1556). Под его управлением оказалась громадная империя (Испания с колониями, Нидерланды, итальянские, австрийские, германские земли). В период его правления испанцами была завоевана Мексика, а потом и Перу. В 1556 году Карл V отрекся от престола и ушел в испанский монастырь, оставив Испанию, Италию и американские колонии вместе с испанской короной своему сыну Филиппу II, а германские и другие земли вместе с титулом императора – брату Фердинанду.
20
Начало латинского выражения «Так проходит мирская слава».
21
Банки, сахар и пресса – вот в чем будущее (нем.).
22
Фош Фердинанд (1851–1929) – маршал Франции (1918), командовал армией, группой армий в Первую мировую войну.
23
Клемансо Жорж (1841–1929) – выдающийся государственный деятель, премьер-министр Франции в 1906–1909 и 1917–1920 годах.
24
Игра, одним из атрибутов которой является бородатая голова. В ее раскрытый рот забрасывают шары.
25
Да, сэр (англ.).
26
Перед самой кончиной (лат.).
27
Мансар Франсуа (1598–1666) – французский архитектор, представитель классицизма.
28
Сочетаю вас в браке (лат.).
29
Утренний чай (англ.).
30
Большой приз – главный приз, разыгрываемый ежегодно на скачках в Париже.